ойкумена
читать
читать
читать
читать
«композиторские читки» vs баянный оркестр
Фархад Бахтияри: БЕСЕДА С АЗАМАТОМ ХАСАНШИНЫМ О НАПРАВЛЕНИЯХ ТАТАРСКОЙ И БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ, ОБ ИХ ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Дарина чиркова: земля говорит. совместные театральные эксперименты «нмхт» и коми-пермяцкой традиции
Диляра галеева: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ӘЛИФ» О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ МУЗЫКИ И ТАНЦА В СОВРЕМЕННОМ ФИЗИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ӘЛИФ» О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ МУЗЫКИ И ТАНЦА В СОВРЕМЕННОМ ФИЗИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
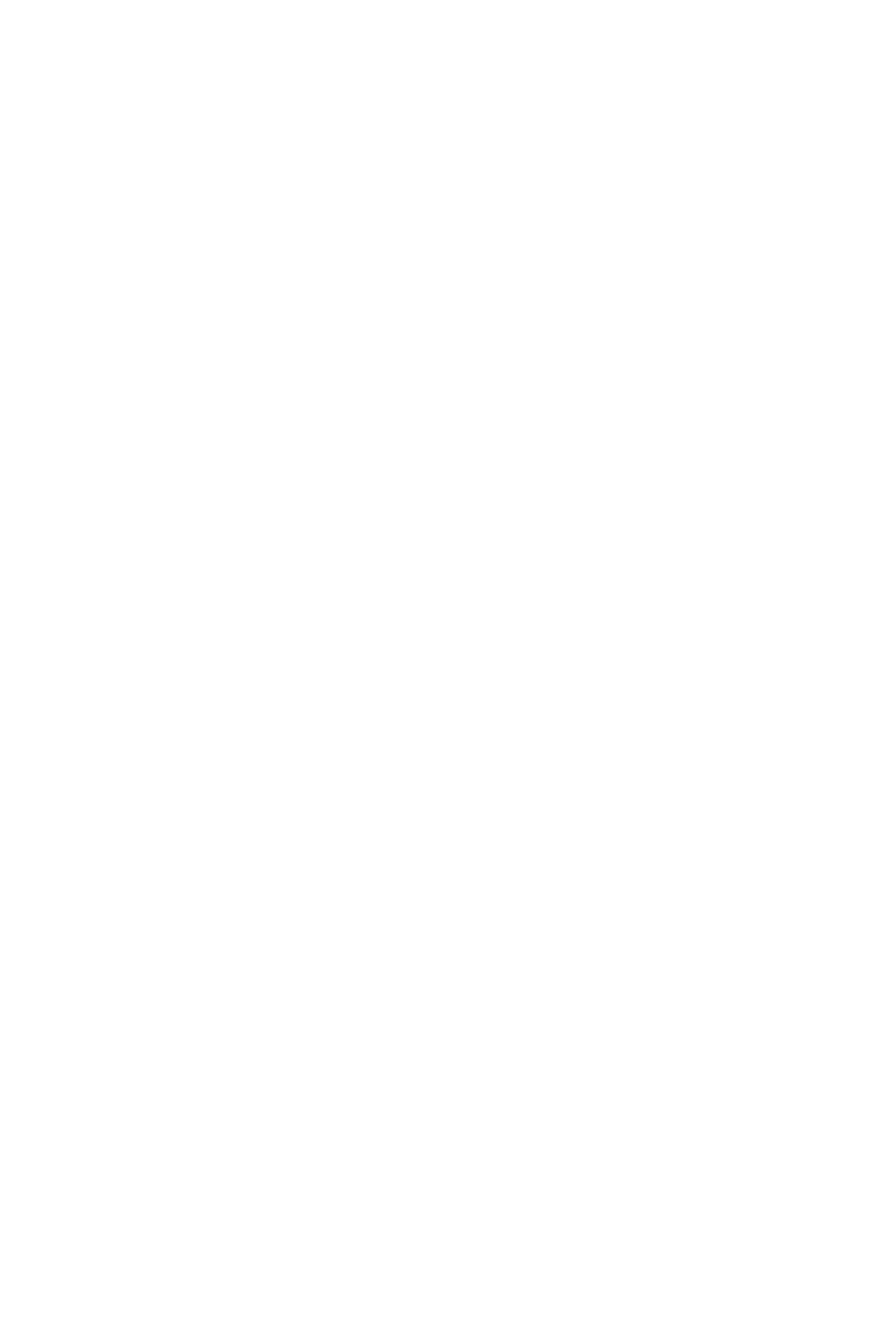
Диляра Галеева
Училась в МГУ и Политехе Петра Великого. PR-специалист и креативный продюсер. Ранее специализировалась на продвижении проектов в сфере городской среды и урбанистики: ex-PRD Института развития городов Татарстана и бюро «Архитектурный десант». Сейчас занимается госкоммуникациями и работает директором по развитию Scratch DJ School в Казани. Cреди последних проектов — форум «Территория будущего. Москва 2030» (редактор) и театральный фестиваль «Аваздаш» в Альметьевске (PR-специалист).
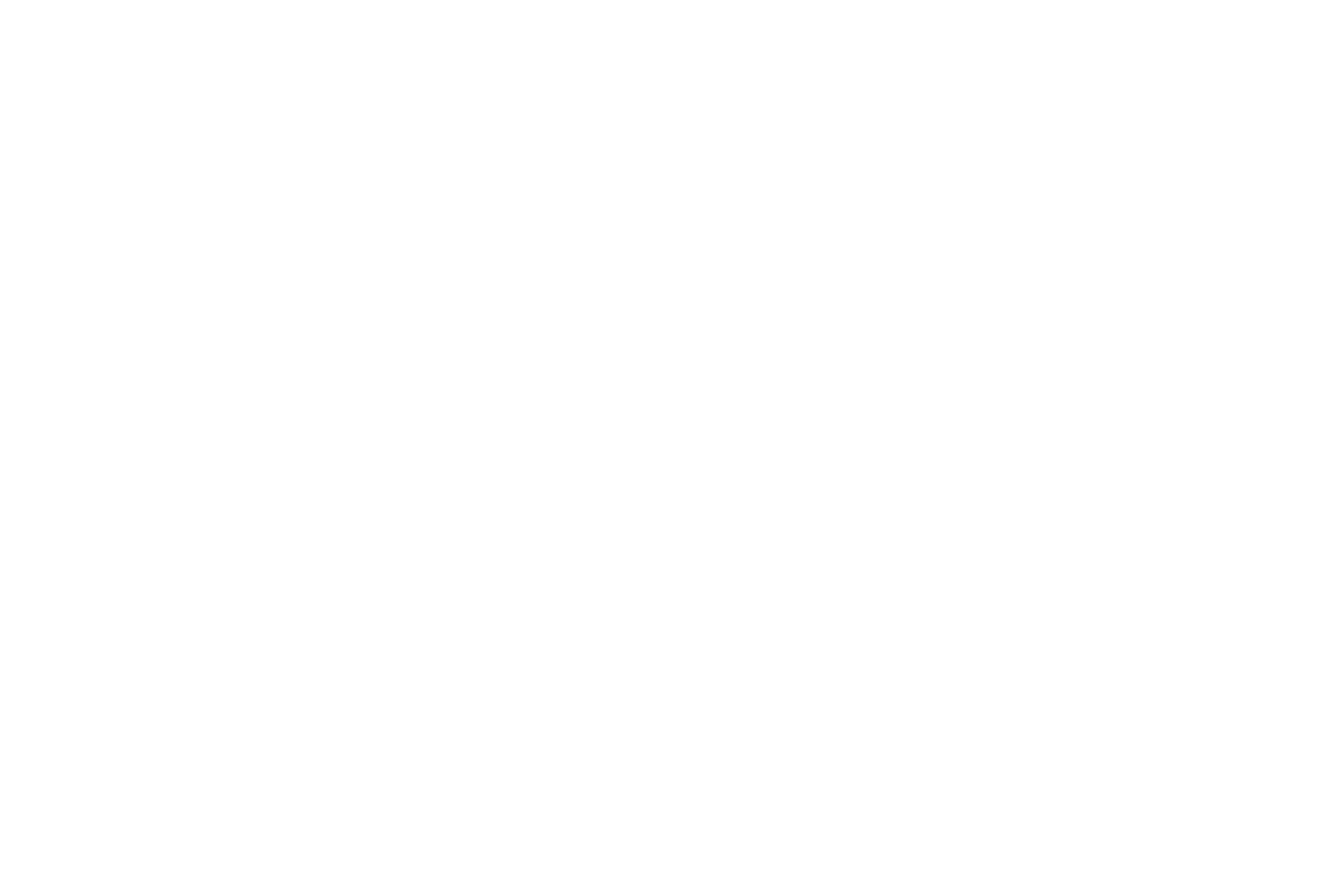
Спектакль «Хранители времени»
Музыка и танец: мы привыкли считать, что эти понятия неразрывны и образуют синергетический музыкально-хореографический образ. Однако в современных пластических спектаклях, уходящих далеко за рамки классического балета, всё не так однозначно.
Начнем с того, что ответ в целом лежит в двух кардинально разных плоскостях. В первом случае музыка выступает ландшафтом и эмоциональным фундаментом для зрителя. Во втором она — двигатель формы и смыслов, управляющий хореографом, танцором и, главное, вниманием зрителя. Вариативность подходов объясняется разнообразием авторских прочтений и художественных принципов, исторически сложившихся у разных школ. Вот что об этом говорит хореограф, танцовщик и куратор фестиваля «Аваздаш» Нурбек Батулла: «Яркий пример демонстрируют московская и питерская школы хореографии. Начать даже с того, что в Петербурге кафедра хореографии организована при консерватории, а в Москве — при театральном вузе. Поэтому во время обучения в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова я чувствовал, как привязанность к музыке закрепощала меня. Но это абсолютно субъективное, моё личное мнение».
Начнем с того, что ответ в целом лежит в двух кардинально разных плоскостях. В первом случае музыка выступает ландшафтом и эмоциональным фундаментом для зрителя. Во втором она — двигатель формы и смыслов, управляющий хореографом, танцором и, главное, вниманием зрителя. Вариативность подходов объясняется разнообразием авторских прочтений и художественных принципов, исторически сложившихся у разных школ. Вот что об этом говорит хореограф, танцовщик и куратор фестиваля «Аваздаш» Нурбек Батулла: «Яркий пример демонстрируют московская и питерская школы хореографии. Начать даже с того, что в Петербурге кафедра хореографии организована при консерватории, а в Москве — при театральном вузе. Поэтому во время обучения в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова я чувствовал, как привязанность к музыке закрепощала меня. Но это абсолютно субъективное, моё личное мнение».
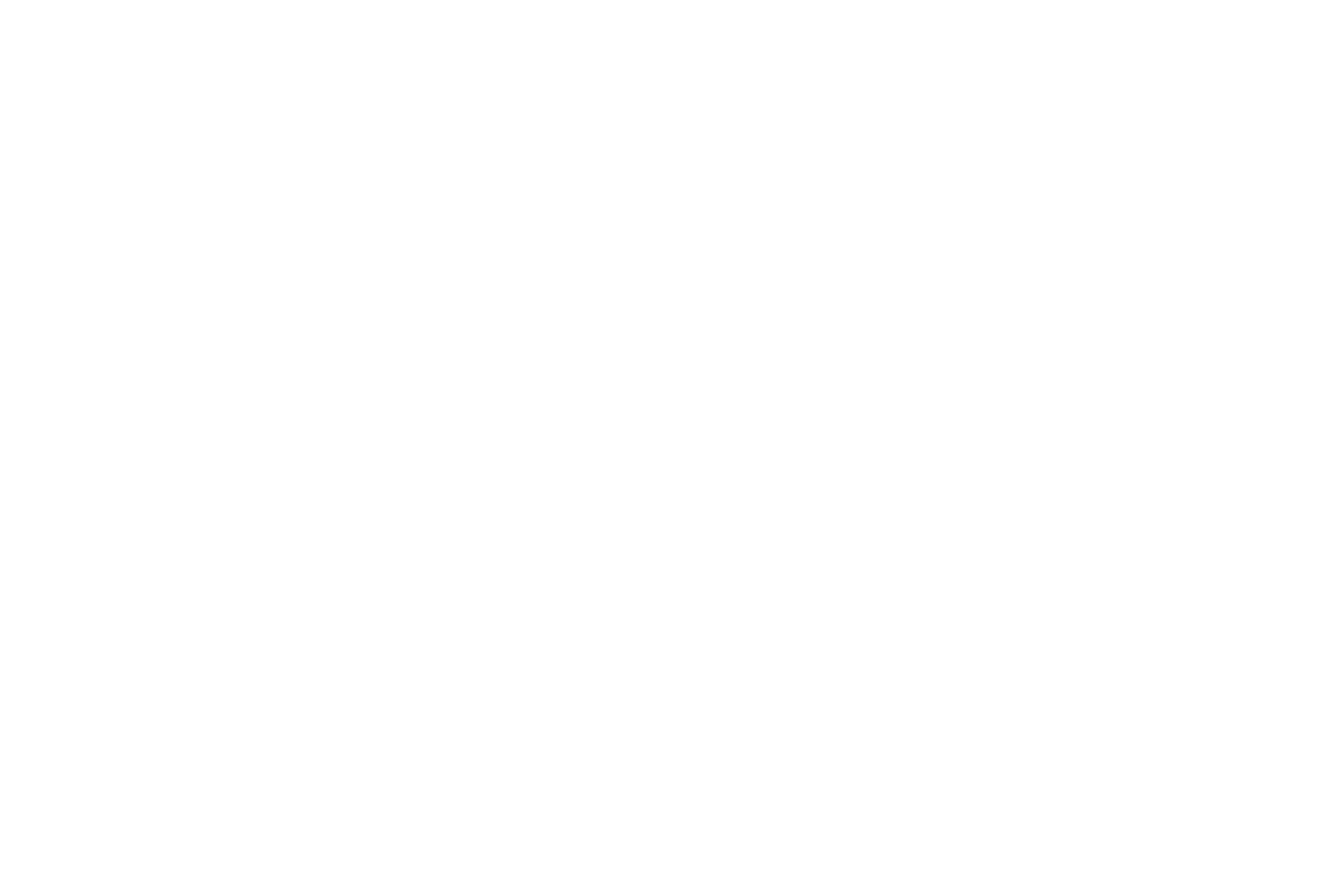
Нурбек Батулла
Музыка, написанная для спектакля, и музыка, созданная как самоценное произведение, — это также принципиально разные феномены. Поэтому бывают случаи, когда уже готовое музыкальное произведение в силу своей самодостаточности отталкивает постановщика, так как его собственная партитура, визуальная и хореографическая, не дотягивает до уровня существующей композиции. Из-за этого представители современного физического театра работают зачастую не с композиторами, а с саунд-дизайнерами.
Другой тенденцией является «пересборка» музыки: всё чаще в ход идёт музыкальный монтаж с использованием компьютерных технологий и специальных программ. И можно констатировать, что это — отход от музыки как таковой, так как всё чаще используются шумы, звукоподражания, физиологические звуки и отдельные сэмплы. Такая «пересобранная», где-то «искусственная» музыка чаще всего становится фоновой, но неотделимой частью спектакля. Это партитура, которая не может существовать без визуальной составляющей постановки.
Пример такого подхода демонстрирует в своих работах израильский хореограф, танцор и композитор Хофеш Шехтер. Он сам пишет музыку для своих постановок, но никогда не публикует её на стриминговых платформах, несмотря на запрос общественности. Такая музыка, по его мнению, не предназначена для отдельного прослушивания, так как это не одно целостное произведение, а часть другого.
Но и здесь возможны исключения. Одно из них — танцевальный перформанс sak-sok (создан в 2020 году Нурбеком Батуллой, показывался на театральной площадке MOÑ в Казани). Вот что говорит об этой работе Ислам Валеев (Malsi Music), композитор, саунд-дизайнер и один из музыкантов спектакля: «Хореографическая, визуальная и музыкальная составляющие были в этой постановке наравне. Мы использовали этнические инструменты, перкуссию, народный вокал, и всё это — в смешении с электронным звучанием. Перформанс рождался каждый раз на основе музыкальной импровизации. Более того, аудиальная часть перформанса sak-sok выросла в отдельную, самостоятельную единицу. Недавно в Казани состоялась ее премьера.
Другой тенденцией является «пересборка» музыки: всё чаще в ход идёт музыкальный монтаж с использованием компьютерных технологий и специальных программ. И можно констатировать, что это — отход от музыки как таковой, так как всё чаще используются шумы, звукоподражания, физиологические звуки и отдельные сэмплы. Такая «пересобранная», где-то «искусственная» музыка чаще всего становится фоновой, но неотделимой частью спектакля. Это партитура, которая не может существовать без визуальной составляющей постановки.
Пример такого подхода демонстрирует в своих работах израильский хореограф, танцор и композитор Хофеш Шехтер. Он сам пишет музыку для своих постановок, но никогда не публикует её на стриминговых платформах, несмотря на запрос общественности. Такая музыка, по его мнению, не предназначена для отдельного прослушивания, так как это не одно целостное произведение, а часть другого.
Но и здесь возможны исключения. Одно из них — танцевальный перформанс sak-sok (создан в 2020 году Нурбеком Батуллой, показывался на театральной площадке MOÑ в Казани). Вот что говорит об этой работе Ислам Валеев (Malsi Music), композитор, саунд-дизайнер и один из музыкантов спектакля: «Хореографическая, визуальная и музыкальная составляющие были в этой постановке наравне. Мы использовали этнические инструменты, перкуссию, народный вокал, и всё это — в смешении с электронным звучанием. Перформанс рождался каждый раз на основе музыкальной импровизации. Более того, аудиальная часть перформанса sak-sok выросла в отдельную, самостоятельную единицу. Недавно в Казани состоялась ее премьера.

Танцевальный перформанс sak-sok
Ещё один тонкий вопрос, который можно рассмотреть на примере sak-sok, — это музыка в пластическом национальном театре. В основе упомянутого перформанса лежит татарский баит, и музыка позволяет здесь выйти за рамки этого достаточно понятного и сдержанного лиро-эпического жанра. Но возможны случаи, когда, наоборот, аудиальная часть спектакля становится слишком прямым и быстрым проводником к культурному коду. Например, звук кубыза и горловое пение наверняка вырисовывают в воображении ожидаемый ассоциативный ряд, связанный с элементами культуры Центральной Азии. Чтобы не создавать подобных клишированных национальных атрибутов и не превращать музыку в триггер, работающий настолько «в лоб», в дело снова идёт саунд-дизайн. Физический театр balballar, премьера которого состоялась 3 ноября 2025 года на фестивале «Аваздаш», — тому пример. Танцевальный спектакль о таинственных изваяниях балбалах (загадочных скульптурах, которые создавались в честь душ ушедших предков) строится на «говорящих звуках» и звукоподражаниях. Вот, что рассказывает об этой работе композитор постановки Ислам Валеев: «Во время репетиций, мы искали звуковые метафоры. Иногда это были просто шумы и конкретные звуки (например, жужжание мухи), а в каких-то случаях это была работа с тишиной. А ещё мы использовали записи исполнений на древних глиняных инструментах, например на таш сыбызгы (окарина, в пер. с татарского — “каменная свистулька”). Накладывая на их звучание электронную составляющую, мы создали новые многослойные текстуры».
Постановка стала диалогом танцоров с музыкой. И это слово — диалог — указывает на ещё одну новую и смелую особенность сосуществования пластического и музыкального в современном театре. «В своих спектаклях я всегда стараюсь быть с музыкой в активном диалоге и, позволю себе такое наглое высказывание, общаться на равных. Иногда спорить с ней. Иногда идти за музыкой, иногда — против неё. А иногда уступить место музыке», — комментирует Нурбек Батулла.
Постановка стала диалогом танцоров с музыкой. И это слово — диалог — указывает на ещё одну новую и смелую особенность сосуществования пластического и музыкального в современном театре. «В своих спектаклях я всегда стараюсь быть с музыкой в активном диалоге и, позволю себе такое наглое высказывание, общаться на равных. Иногда спорить с ней. Иногда идти за музыкой, иногда — против неё. А иногда уступить место музыке», — комментирует Нурбек Батулла.

Физический театр balballar
Наверное, такой гибкий и динамичный разговор музыки с танцем — это и есть то, что отражает почти всю суть современного физического театра. Так или иначе, и музыка, и танец — это абстрактные виды искусства, аккумулирующие в себе нечто трудно уловимое и трудно формулируемое. Оба они стремятся к состояниям, которые зачастую невозможно передать словами. Поэтому такая близость их природы делает их тесное сосуществование неизбежным.
ЗЕМЛЯ ГОВОРИТ. СОВМЕСТНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ «НМХТ» И КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ТРАДИЦИИ
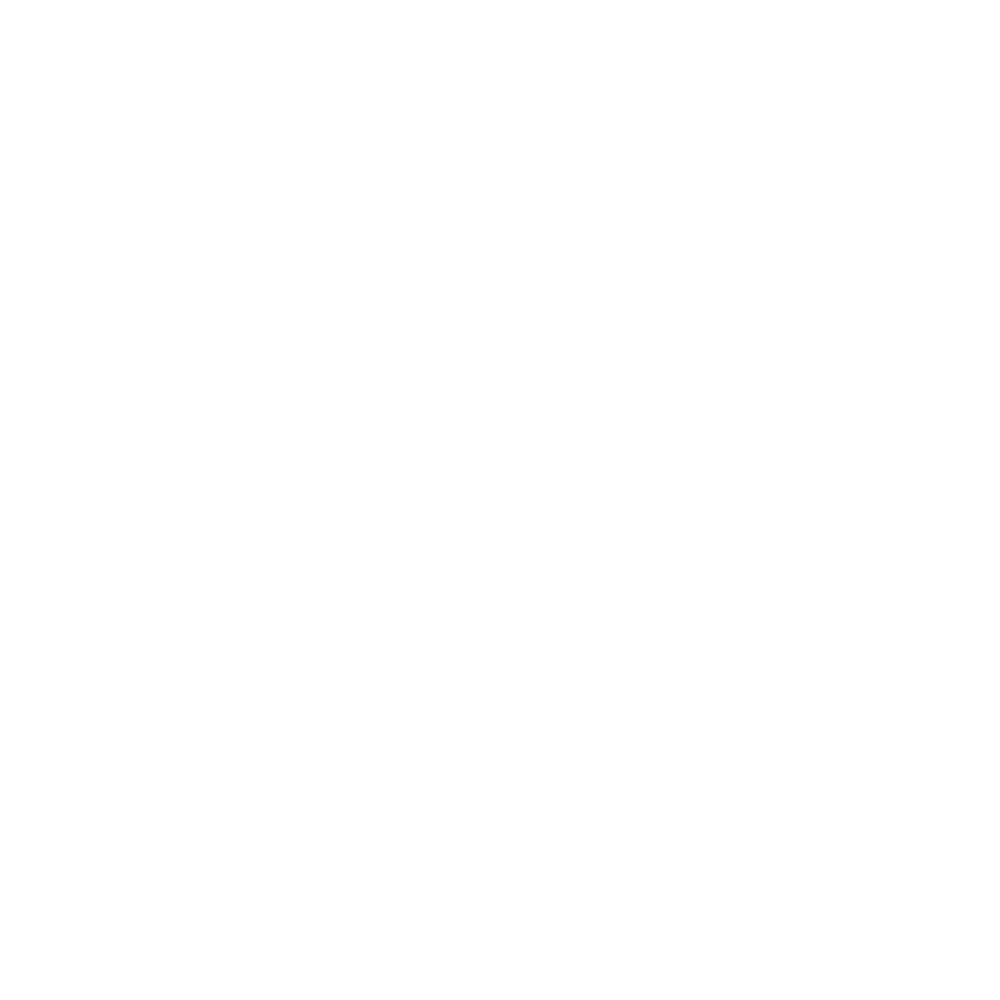
Дарина Чиркова
Режиссер, драматург театральной компании «НМХТ», участник международного «Дягилевского фестиваля», номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», создатель проекта про локальные бренды CHAPTER
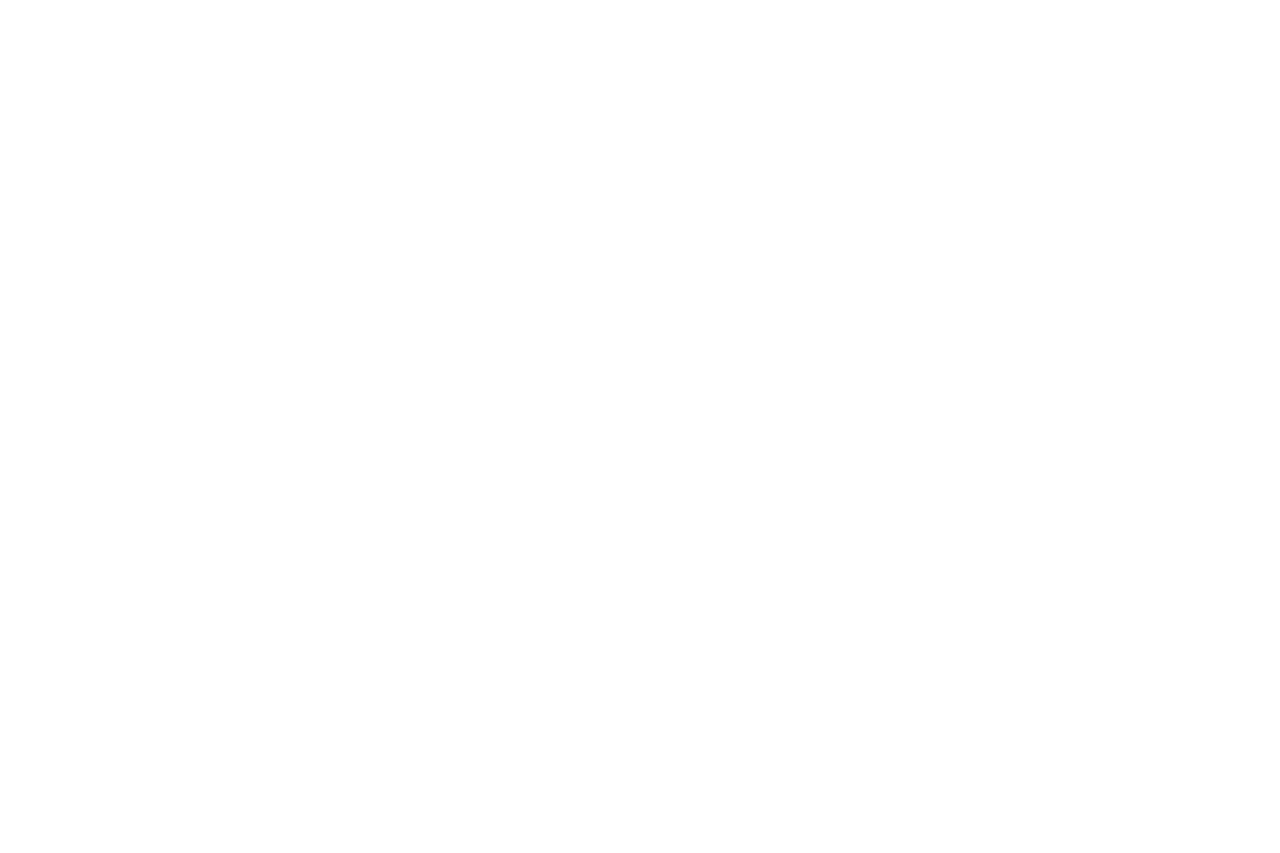
«Всё растёт из малого и возвышается к большому» — это то, что определяет опыт работы театральной компании «НМХТ» с коми-пермяцкой традицией сегодня.
В последнее время локальные языки и музыкальные традиции народов, проживающих на территории России, перестали быть объектами исключительно этнографической фиксации и всё чаще становятся материалом для новых опытов в современном искусстве. «НМХТ» (ранее «немхат») работает именно в этой области: не иллюстрирует региональную культуру, а создаёт с ней совместный театральный эксперимент. Для «НМХТ» важно не реконструировать традицию, а создавать пространство для её нового звучания — пространство, где документальное встречается с художественным, где мелодика языка, звукоречь, фольклор, жизнь конкретных людей (их дыхание, интонации, присутствие, истории) становятся не просто предметом воспроизведения, а первопричиной, источником, спектаклей.
Для команды «НМХТ» работа с коми-пермяцкой традицией началась как личный поиск. Авторы жили и работали в Перми, в пространстве, где присутствие коми-пермяцкой культуры ощущается скорее как тень — сама традиция остаётся как будто недоступной. Первые экспедиции по Коми-Пермяцкому округу изменили это ощущение: встреча с носителями языка, с их чувствами, с их пением и с тем, как звучит природа этих мест, открыла для художников «НМХТ», на тот момент ещё совсем не знающих коми-пермяцкого, другую жизнь.
Каждая экспедиция была важным процессом вхождения в контекст. Художники изучали живую память конкретных людей и мест: записывали беседы с носителями исчезающего языка, с представителями разных поколений, находили старые записи и песни, собирали природные и бытовые звуки. Тогда возникло желание не просто документировать и фиксировать материал, чтобы сохранить, а дать и себе, и зрителю чувство близости к этой культуре и к самой жизни. Создатели будущих спектаклей поняли: если их самих поразило и тронуло, как язык существует в голосах и в музыке и как песня, как тишина, как звуки природы становятся частью повседневного, значит, это может стать опытом и для зрителя. Поэтому все «коми-пермяцкие» проекты «НМХТ» — «К реке», «Улетают птицы», «Коми-пермяцкий алфавит», «Один день с коми-пермяком», «Земля говорит», «Прикосновение», «Звуры» и сточасовой фестиваль про коми-пермяцкое «ЛЮБИТÖМ» — выросли как продолжение личной встречи и сложились в единый, даже музыкальный, цикл.
В последнее время локальные языки и музыкальные традиции народов, проживающих на территории России, перестали быть объектами исключительно этнографической фиксации и всё чаще становятся материалом для новых опытов в современном искусстве. «НМХТ» (ранее «немхат») работает именно в этой области: не иллюстрирует региональную культуру, а создаёт с ней совместный театральный эксперимент. Для «НМХТ» важно не реконструировать традицию, а создавать пространство для её нового звучания — пространство, где документальное встречается с художественным, где мелодика языка, звукоречь, фольклор, жизнь конкретных людей (их дыхание, интонации, присутствие, истории) становятся не просто предметом воспроизведения, а первопричиной, источником, спектаклей.
Для команды «НМХТ» работа с коми-пермяцкой традицией началась как личный поиск. Авторы жили и работали в Перми, в пространстве, где присутствие коми-пермяцкой культуры ощущается скорее как тень — сама традиция остаётся как будто недоступной. Первые экспедиции по Коми-Пермяцкому округу изменили это ощущение: встреча с носителями языка, с их чувствами, с их пением и с тем, как звучит природа этих мест, открыла для художников «НМХТ», на тот момент ещё совсем не знающих коми-пермяцкого, другую жизнь.
Каждая экспедиция была важным процессом вхождения в контекст. Художники изучали живую память конкретных людей и мест: записывали беседы с носителями исчезающего языка, с представителями разных поколений, находили старые записи и песни, собирали природные и бытовые звуки. Тогда возникло желание не просто документировать и фиксировать материал, чтобы сохранить, а дать и себе, и зрителю чувство близости к этой культуре и к самой жизни. Создатели будущих спектаклей поняли: если их самих поразило и тронуло, как язык существует в голосах и в музыке и как песня, как тишина, как звуки природы становятся частью повседневного, значит, это может стать опытом и для зрителя. Поэтому все «коми-пермяцкие» проекты «НМХТ» — «К реке», «Улетают птицы», «Коми-пермяцкий алфавит», «Один день с коми-пермяком», «Земля говорит», «Прикосновение», «Звуры» и сточасовой фестиваль про коми-пермяцкое «ЛЮБИТÖМ» — выросли как продолжение личной встречи и сложились в единый, даже музыкальный, цикл.
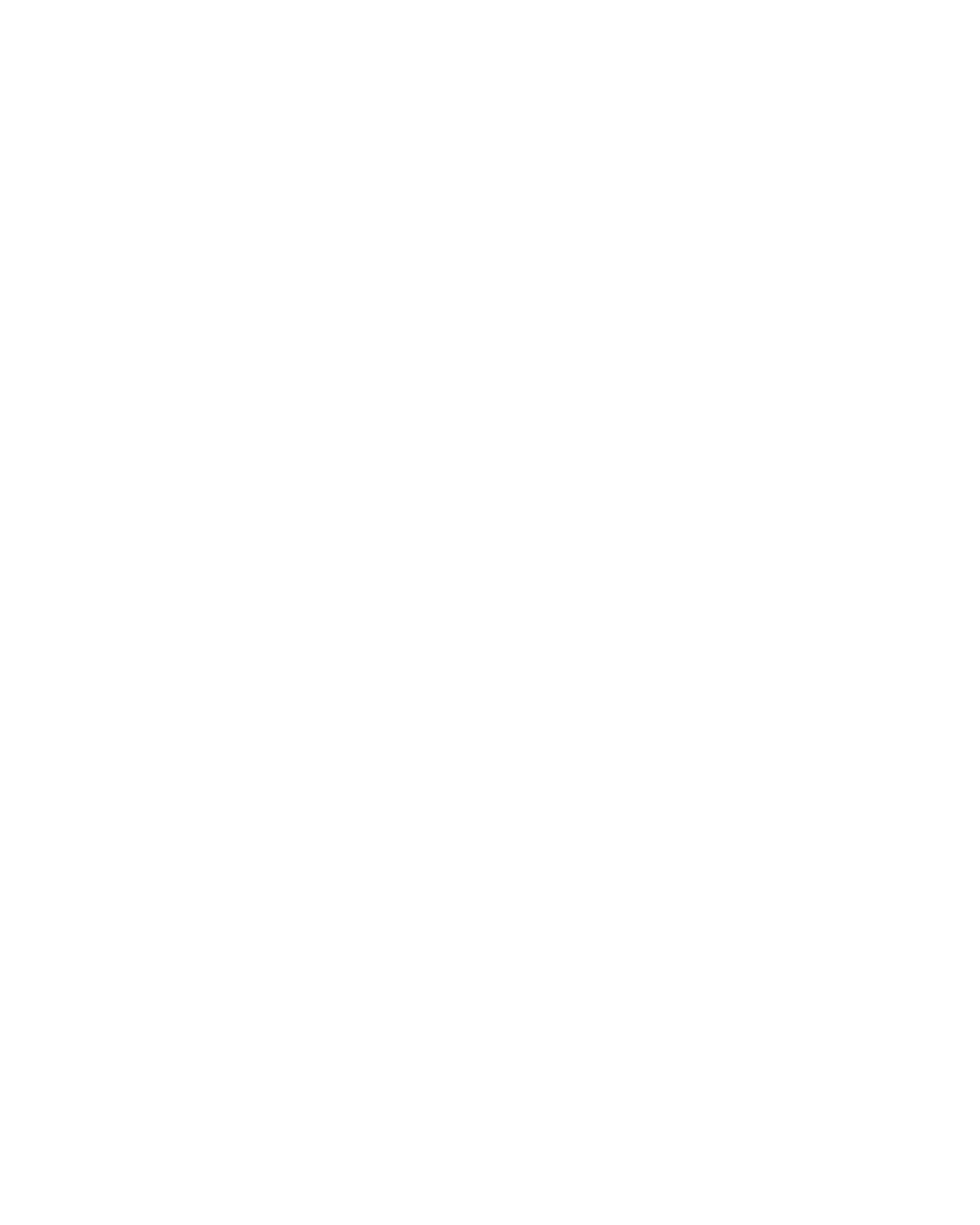
Звуковая среда в этих спектаклях проявляется по-разному. В одних работах авторы оставили аутентичное звучание — так, чтобы зритель услышал голос или песни без композиторского вмешательства; в других — мелодии переработали, создали многослойные текстуры, где полевые записи соединились с тембрами современных инструментов. Иногда речь, отдельные фонемы, звуки в спектаклях образуют ритмический рисунок, а иногда превращаются в шум. Научные исследования коми-пермяцкого языка подтвердили ощущение авторов, что его фонетический строй формирует особую звуковую ткань. Лингвисты отмечают, что для финно-угорских языков вообще характерна тесная связь речи с песенной традицией: синтаксис и интонация организованы так, что граница между разговорной речью и пением становится подвижной. Поэтому спектакли задуманы таким образом, чтобы коми-пермяцкий язык в них можно было слушать даже тем, кто не понимает смысла слов, то есть слушать как музыку. Интонации, паузы, звукопись, мелодические контуры рассматриваются как первичная основа партитуры, которую композиторы и саунд-дизайнеры «НМХТ» разворачивают в спектаклях, существующих, в свою очередь, на границах музыки, жизни и смерти.
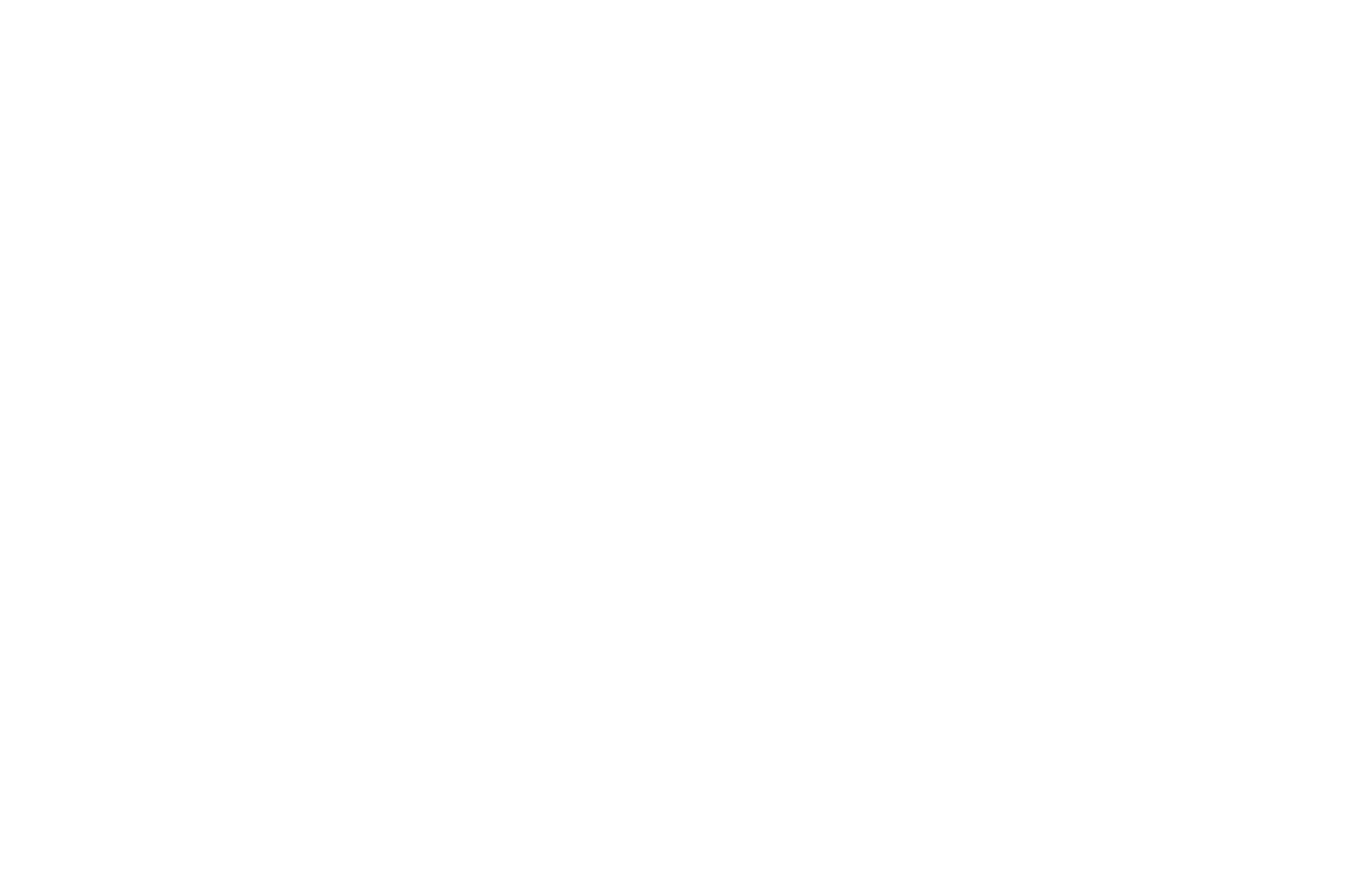
Перфоопера кассетных плееров «Улетают птицы»
Поэтому в своих спектаклях голоса коми-пермяков авторы — сначала интуитивно, а потом получив научное обоснование — воспринимают как мелодическую линию. Так, в сайт-специфичной перфоопере кассетных плееров «Улетают птицы» центральной партией становится голос Раисы Степановны, который художники записали во время первой экспедиции осенью 2021 года. Обработав собранный материал, чуть позже они встретились с другими носителями языка и попросили их исполнить сочинённые арии и хоровые партии, сохраняя звучание на кассетных плеерах.
В акустическом камерном спектакле «К реке» язык и музыка, драматургически выстроенные, стали не сопровождением действия, а самим действием, а текст коми-пермяцких песен лёг в основу нарратива; но зритель в спектакле не просто следит за сюжетом, а проживает историю через звуковую ткань.
В акустическом камерном спектакле «К реке» язык и музыка, драматургически выстроенные, стали не сопровождением действия, а самим действием, а текст коми-пермяцких песен лёг в основу нарратива; но зритель в спектакле не просто следит за сюжетом, а проживает историю через звуковую ткань.
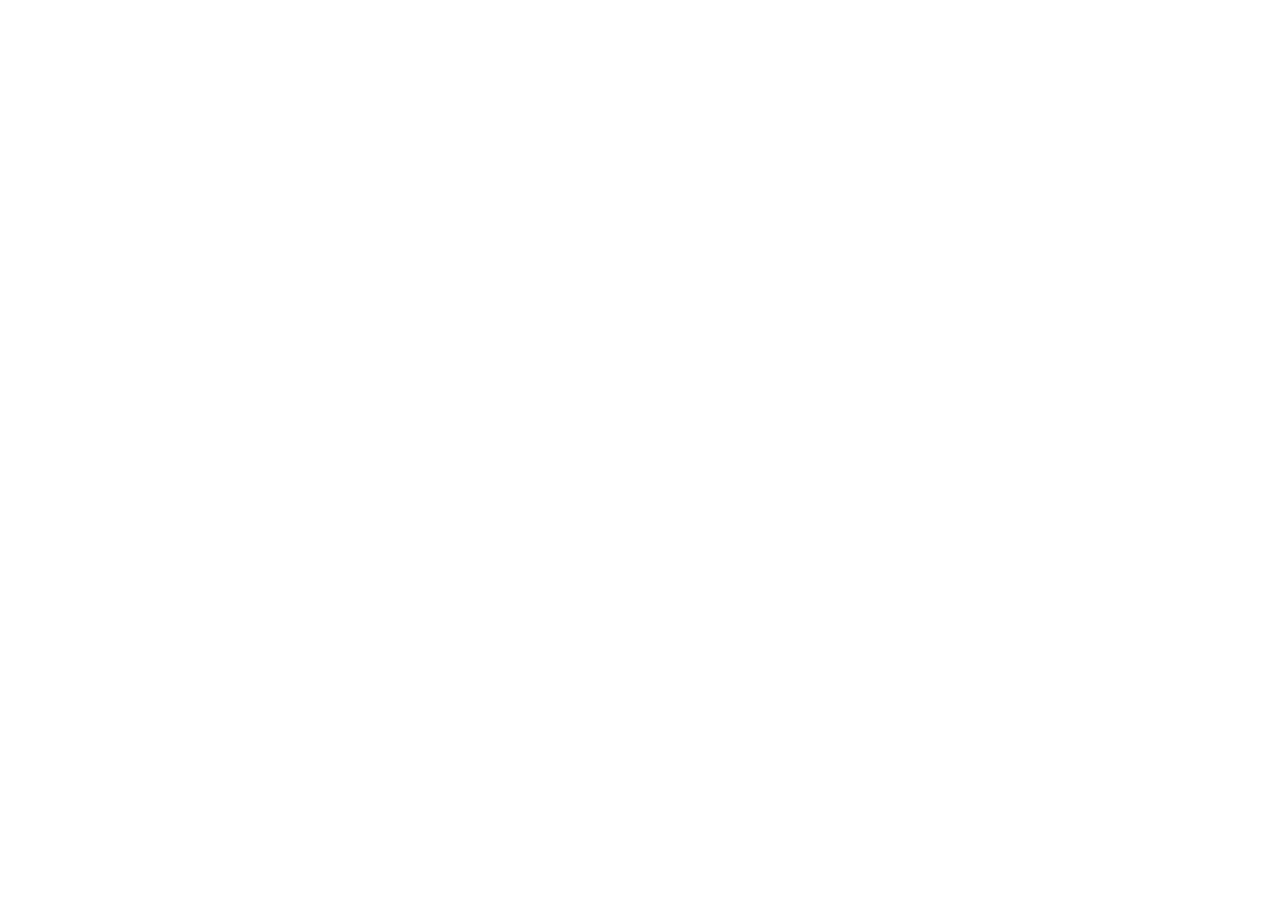
Акустический камерный спектакль «К реке»
В танцперформансе «Коми-пермяцкий алфавит» звуковая партитура выстроена, исходя из особенностей коми-пермяцкого алфавита: все буквы были декомпозированы саунд-дизайнером на отдельные музыкальные треки. Так, алфавит превратился в своеобразный звуковой инструментарий, из которого сложилось произведение, где каждая буква звучит как отдельный тон.
Основой медиаспектакля «Один день с коми-пермяком» стали исключительно документальные звуки. Всё, что слышит зритель, — это голоса и песни, случайно подслушанные разговоры, звуки утренней тишины, скрипы половиц, гул тракторов, шорохи листьев, звуки, издаваемые животными, ритмы традиционного коми-пермяцкого танца «Тупи-тап», складывающегося из дробных ходов. Все звуки смонтированы в партитуру почти без вмешательства композиторских средств, чтобы сохранить ощущение подлинного присутствия. Видеоряд возникает из той же среды: он как бы возвращает зрителя в конкретное место, позволяя ему приблизиться к жизни коми-пермяков.
Основой медиаспектакля «Один день с коми-пермяком» стали исключительно документальные звуки. Всё, что слышит зритель, — это голоса и песни, случайно подслушанные разговоры, звуки утренней тишины, скрипы половиц, гул тракторов, шорохи листьев, звуки, издаваемые животными, ритмы традиционного коми-пермяцкого танца «Тупи-тап», складывающегося из дробных ходов. Все звуки смонтированы в партитуру почти без вмешательства композиторских средств, чтобы сохранить ощущение подлинного присутствия. Видеоряд возникает из той же среды: он как бы возвращает зрителя в конкретное место, позволяя ему приблизиться к жизни коми-пермяков.
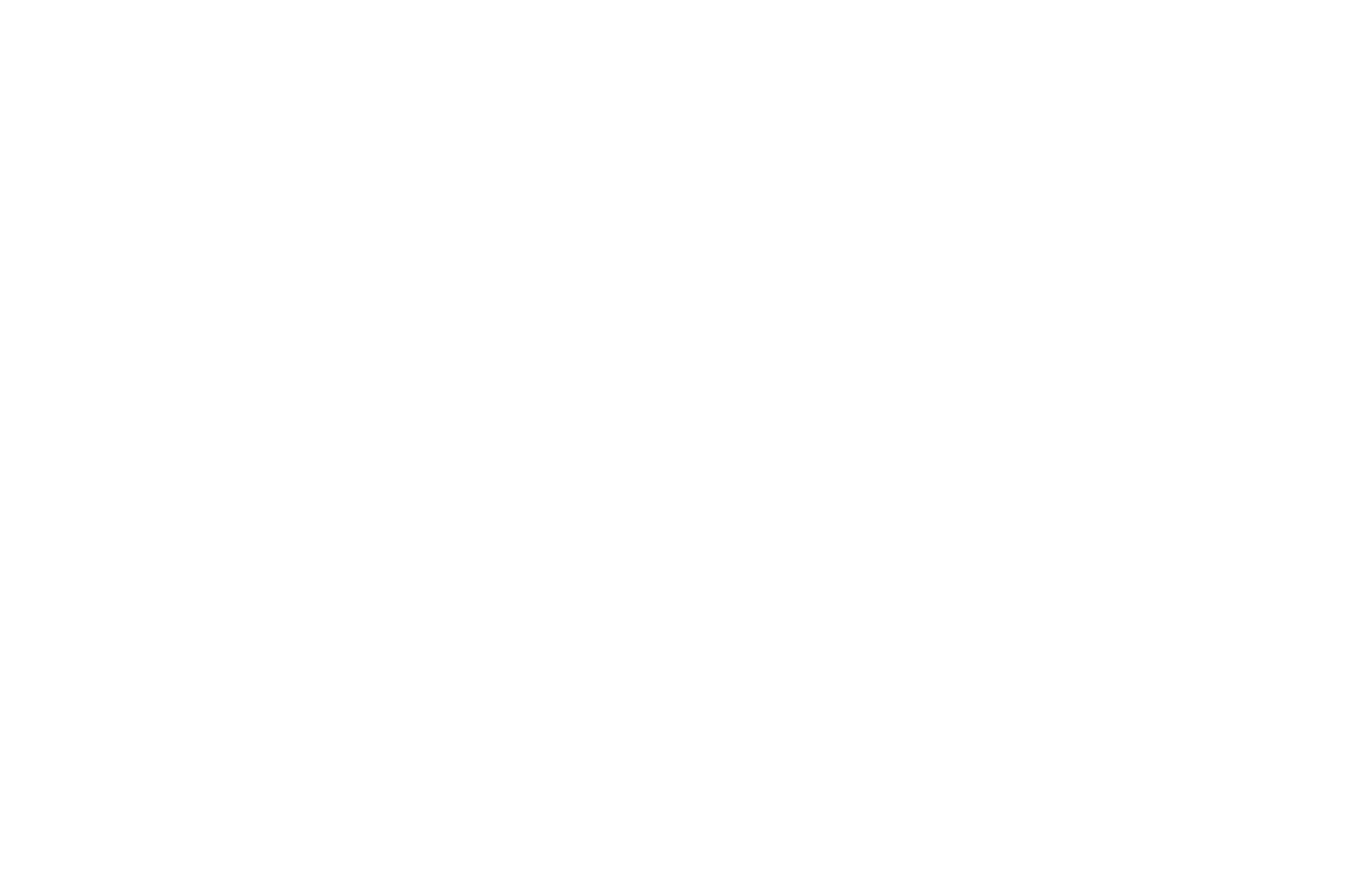
Медиаспектакль «Один день с коми-пермяком»
В партиципаторном спектакле утраченного «Земля говорит», посвящённом самой коми-пермяцкой земле и процессу осознания смертности, зрители сами становятся исполнителями и вместе проговаривают текст. Тридцать человек рассажены как хор, а вокруг — оркестр из акустических систем, транслирующих звуки земли, снятые в разных средах (это звучание собрано в Коми-Пермяцком округе с помощью преобразования вибраций почвы в звуковую волну и техник аддитивного и FM-синтеза, позволяющих генерировать уникальные тембры и голоса). Одновременно с этим конденсаторные микрофоны улавливают шумы зрителей и соединяют их голоса с голосами земли.
Неообряд «Прикосновение» устроен таким образом, что зрители становятся соавторами звукового полотна: перед спектаклем каждому предлагается записать на диктофон до тридцати секунд аудиоматериала на тему личной утраты. Это может быть что угодно: шум, слова, тишина. Многие записывают собственный голос. Затем эти звуки включаются в композицию спектакля. В процессе работы над ним авторы заметили структуры, напоминающие ритмы плача, которые у разных народов почти идентичны, и сам плач в этом смысле универсален — он звучит одинаково в разных культурах. Так, личное в спектаклях становится общим.
Особый интерес для авторов представляют звукоподражательные и образные слова, которые в коми-пермяцком языке встречаются достаточно часто. Эти элементы — ономатопеи или имитации природных и бытовых звуков — выполняют двойную функцию: они передают содержание и одновременно формируют звуковую среду, ритм и тембр речи. С их помощью можно выстраивать акустические картины, где язык становится инструментом наблюдения и взаимодействия с окружающим миром. Именно этот приём лёг в основу звуковой прогулки «Звýры», во время которой зрители с помощью чувствительных рекордеров исследуют пространство через звук, а коми-пермяцкие звукоподражательные слова становятся ключом к внимательному восприятию акустического ландшафта.
Неообряд «Прикосновение» устроен таким образом, что зрители становятся соавторами звукового полотна: перед спектаклем каждому предлагается записать на диктофон до тридцати секунд аудиоматериала на тему личной утраты. Это может быть что угодно: шум, слова, тишина. Многие записывают собственный голос. Затем эти звуки включаются в композицию спектакля. В процессе работы над ним авторы заметили структуры, напоминающие ритмы плача, которые у разных народов почти идентичны, и сам плач в этом смысле универсален — он звучит одинаково в разных культурах. Так, личное в спектаклях становится общим.
Особый интерес для авторов представляют звукоподражательные и образные слова, которые в коми-пермяцком языке встречаются достаточно часто. Эти элементы — ономатопеи или имитации природных и бытовых звуков — выполняют двойную функцию: они передают содержание и одновременно формируют звуковую среду, ритм и тембр речи. С их помощью можно выстраивать акустические картины, где язык становится инструментом наблюдения и взаимодействия с окружающим миром. Именно этот приём лёг в основу звуковой прогулки «Звýры», во время которой зрители с помощью чувствительных рекордеров исследуют пространство через звук, а коми-пермяцкие звукоподражательные слова становятся ключом к внимательному восприятию акустического ландшафта.
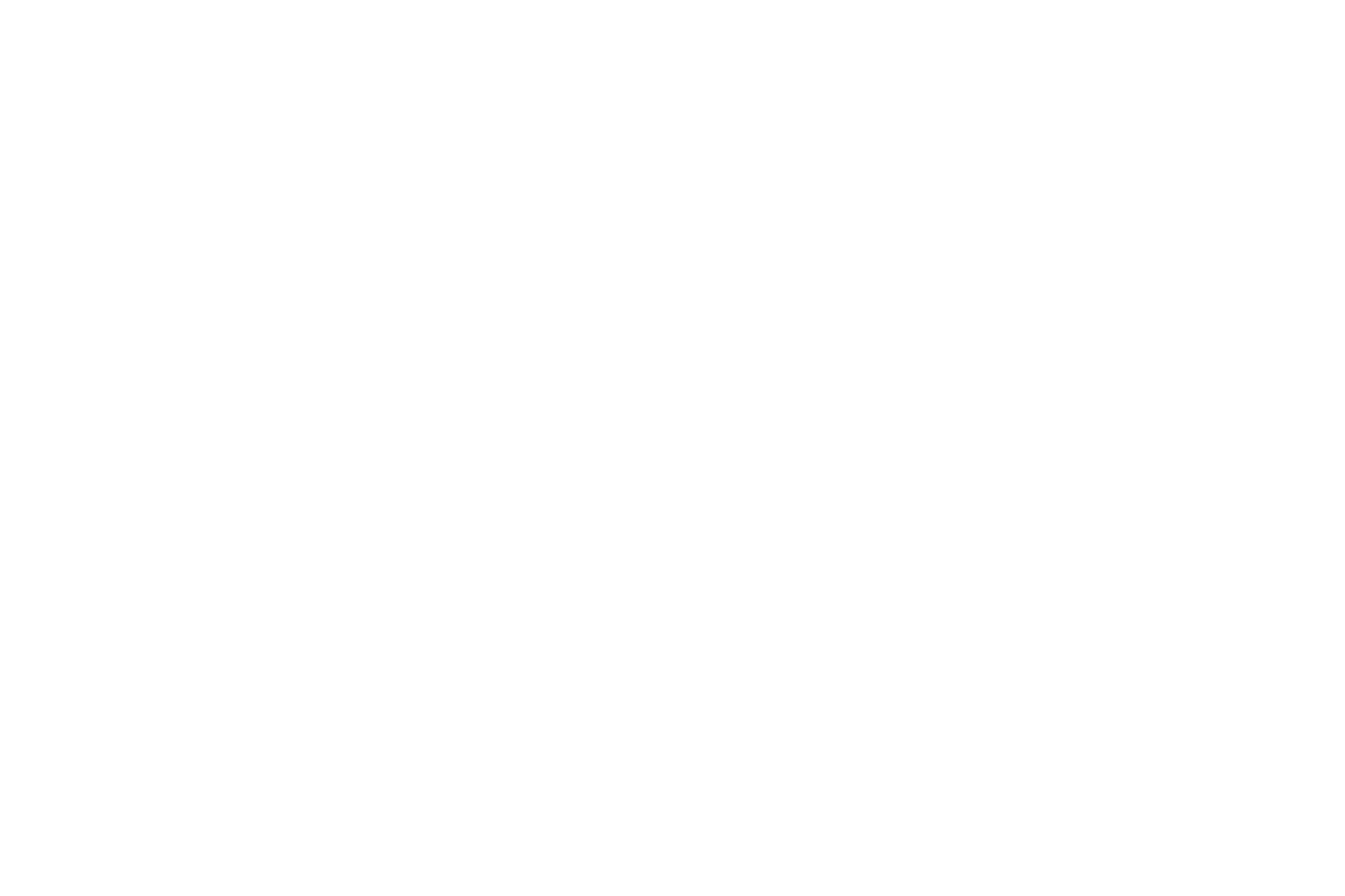
Звуковая прогулка на коми-пермяцком языке «Звýры»
Таким образом, в спектаклях «НМХТ» зритель получает редкий и непростой для современного человека опыт медленного вслушивания в голос, всматривания в чужую повседневность, где исчезающая культура и жизнь становятся слышимыми и видимыми в своей простоте и полноте.
Такой метод восприятия создаёт новый вид эмпатии в театре: без абсолютного понимания текста — через резонанс, через сочувствие. Для «НМХТ» это и есть способ показать, что локальная культура может быть универсальной — она звучит так, что её важнее почувствовать, заметить и услышать, а не перевести.
Художники понимают, что работа с традицией должна быть очень бережной и очень тонкой: важно не экзотизировать, не создавать из культуры музейный экспонат; поэтому опыт работы с наследием коми-пермяков — это история про личные переживания, про существующие отношения с людьми и с природой. «НМХТ» учится и, наверное, учит слышать иначе. Иначе — трепетнее — относиться к звучанию мира вокруг. Художники стремятся сделать традицию живой, чтобы всё малое (из одного звука, из одного жизнеописания, из одного слова, из одной буквы алфавита, из одного только чувства) возвысилось к большому — к культуре, ставшей неотъемлемой частью современности.
Такой метод восприятия создаёт новый вид эмпатии в театре: без абсолютного понимания текста — через резонанс, через сочувствие. Для «НМХТ» это и есть способ показать, что локальная культура может быть универсальной — она звучит так, что её важнее почувствовать, заметить и услышать, а не перевести.
Художники понимают, что работа с традицией должна быть очень бережной и очень тонкой: важно не экзотизировать, не создавать из культуры музейный экспонат; поэтому опыт работы с наследием коми-пермяков — это история про личные переживания, про существующие отношения с людьми и с природой. «НМХТ» учится и, наверное, учит слышать иначе. Иначе — трепетнее — относиться к звучанию мира вокруг. Художники стремятся сделать традицию живой, чтобы всё малое (из одного звука, из одного жизнеописания, из одного слова, из одной буквы алфавита, из одного только чувства) возвысилось к большому — к культуре, ставшей неотъемлемой частью современности.
БЕСЕДА С АЗАМАТОМ ХАСАНШИНЫМ О НАПРАВЛЕНИЯХ ТАТАРСКОЙ И БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ, ОБ ИХ ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
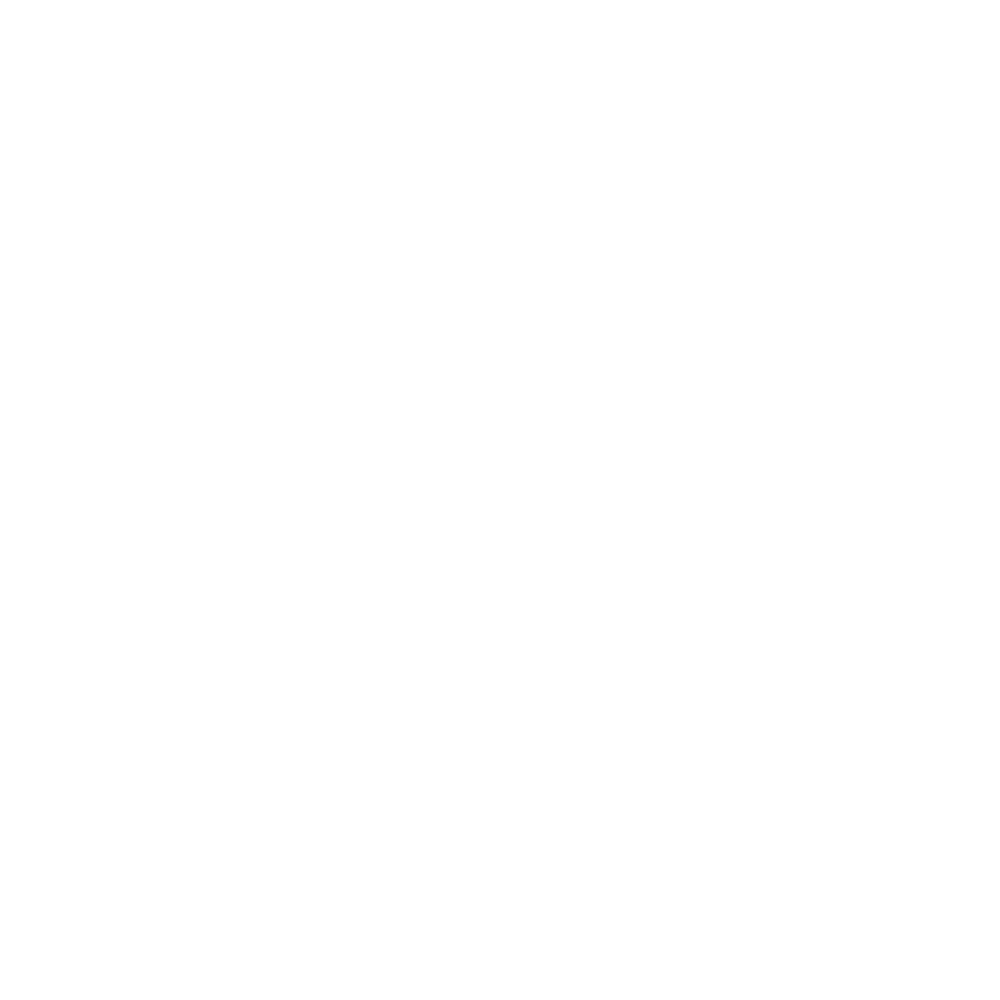
Фархад Бахтияри
Композитор, музыковед, лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции, член Союза композиторов РФ. Преподаватель Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, аспирант Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В центре внимания – современная экспериментальная и традиционная музыка народов мира.

Ф.Б. (Фархад Бахтияри): В современной практике постепенно приобретает известность новая область татарской и башкирской музыки, связанная с применением электроакустических технологий. В каких условиях она существует в Уфе?
А.Х. (Азамат Хасаншин): Большая часть национально окрашенной электроники является чисто коммерческой. Здесь, в Уфе, были попытки создания акусматических композиций [сочинения, решённые исключительно электронными средствами, без участия исполнителей — примечание автора]. В один из приездов профессора Московской консерватории Игоря Леонидовича Кефалиди в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии к нам в вуз (в середине 2010-х), он предлагал открыть в республике центр электроакустической музыки. Этот вопрос поднимался в то время в Министерстве культуры республики — но, как обычно, это всё пошло в никуда.
В качестве самостоятельного вида музыкального искусства акусматическая композиция в Башкирии не существует. Что же касается «прикладной» электронной музыки, то она (как и везде в мире) активно используется как звуковое приложение к кино, очень востребована в сфере популярной музыки. Этническая электронная музыка имеет огромный потенциал, но практически всегда она остаётся на уровне сопровождения сценического действия, в качестве фонограмм для уличных концертов, в коммерческих пространствах, в фоновом варианте, в виде некоего «лаунжа». С моей точки зрения, такая её прикладная разновидность не имеет и даже не предусматривает никакой художественной ценности.
К сожалению, и в Казани в основном ситуация такая же: новые технологии используются только для того, чтобы хоть как-то «оживить» устоявшиеся — безнадёжно устаревшие, архаизированные этнические формы выразительности: бесконечные этношоу, песни-пляски самодеятельности и правительственные концерты. И в итоге: кроме шума и сотрясения воздуха — никакого результата.
Это и есть главная проблема культуры и искусства национальных республик — отсутствие результатов подобной «бурной деятельности» и траты просто колоссального, невероятного количества финансов. Подобное их «освоение» не приводит ни к какому итогу или положительному следствию. Напротив, сейчас необходимо использовать имеющийся ресурс на совершенно другое — на достижение определённого результата: в первую очередь — на трансформацию безнадёжно устаревшей этнической художественной реальности, на создание механизма по подготовке и продвижению лучших сочинений национального искусства народов России в общероссийское и / или международное культурное пространство.
Ф.Б.: Перспективна ли сфера акусматической композиции?
А.Х.: Эта сфера, конечно же, перспективна, но, во-первых, она требует серьёзных финансовых вложений (без каких-либо надежд их возвратить).
Во-вторых, это музыка для тех, кто уже предварительно имеет огромный слуховой опыт («наслушанность»), полученный из самых различных областей и «исторических этапов» академической музыки (то есть не только эпох классицизма и романтизма, но и первого и второго авангарда). Только так, самому обладая «устойчивой слуховой моделью» исторического процесса музыки, можно воспринять акусматическую композицию как абсолютно закономерно возникшую аудиальную сферу бытия европейского музыкального академизма, как совершенно естественное «ожидаемое» явление, как часть модерна и постмодерна. Много таких слушателей у нас?
В-третьих, в этой области должны работать не все композиторы, а только те, кто имеет не только глубокие познания в этой области (включая технологические) — но и абсолютную уверенность в правильности того, что они делают; они должны быть готовы не только на негативную реакцию публики, но даже — и на отсутствие какой-либо реакции. Государству этот вид творчества мало интересен. Какое количество публики собирают концерты акусматической музыки в Москве? Был ли в прошлом году подобный концерт в рамках фестиваля «Московская осень»?
Ф.Б.: Точно не знаю.
А.Х.: Вот раньше всегда был. Я был ещё студентом и присутствовал на открытии Центра электроакустической музыки осенью, кажется, 1992 года; тогда он располагался в корпусе бывшего Белого зала на верхнем этаже под крышей. Помню очень хорошо, что там вёл занятия Андрей Смирнов.
Ф.Б.: Насколько успешно применяется традиционный инструментарий в этой сфере? Как-то разговаривал с Николаем Поповым о внедрении в такую композицию звучания курая и чтения нараспев Корана. У него, видимо, к этому двоякое отношение. С одной стороны, положительное, а с другой — отрицательное, поскольку звучание опознаваемой мелодии может рассматриваться как плагиат тембра.
А.Х.: Зачастую всё это лишь попытка создать инновационный продукт, а затем его капитализировать. С моей точки зрения, движение идёт только в этом направлении. Пока никаких попыток перевести акусматическую музыку в этнический формат в национальных культурах нашей страны я не встречал. В основном мы наблюдаем создание инновационных аудиальных этнических «объёмов звучания» или имитацию уже существующих тембров этнических инструментов — нет развития, синтеза, совмещения их со звучаниями, скажем, инструментов академической или джазовой музыки. Например, башкирская народная музыка чрезвычайно богата мелизматикой, линеарной мотивной работой, изощрённостью мелодики. Всё это могло бы стать основой для создания принципиально новых звуковых технологических подходов для её осмысления и переосмысления.
Однако пока происходит просто манипуляция существующими интересами публики. Сэмплирование, биты — это сугубо коммерческий подход. Те, кто работают в этой сфере, пытаются использовать только уже имеющееся — но не хотят создавать новые этнические «звуковые пространства», потому что это невозможно ни монетизировать, ни предложить государственным учреждениям культуры. Когда любые разработки «электронного этно» уже изначально вложены в «универсальную» квадратную метрику европейской эстрады — в этом случае, естественно, игнорируется специфика и уникальность чувства времени, присущего каждой национальной культуре.
Ф.Б.: При работе с традиционной музыкой приходится считаться и с научными исследованиями, и с современной практикой. Если более выражена какая-то одна из сфер, появляется продукт, далёкий от реальности, либо не представляющий художественной ценности.
А.Х.: Да, для исследования традиционной музыки нужно отталкиваться не только от существующих практик бытования. К сожалению, последние в сферах этнической башкирской и татарской музыки очень часто действуют абсолютно разрушительно в творческом плане, не оставляя никаких «свободных или нейтральных пространств».
Сфера этнической музыки в республиках либо находится под очень жёстким руководством власти (где совершенно нет компетентных специалистов) — под прессингом «сверху», либо захватывается коммерческим подходом «снизу». В последнем случае она довольно быстро заполняется людьми без соответствующего профессионального образования. Нот они не знают, они им не нужны так же, как и знания об истории академической музыки их народов. С творчеством Назиба Жиганова, Алмаза Монасыпова, Газиза Альмухаметова, Султана Габяши, Мурада Ахметова они незнакомы, эти имена им ничего не говорят. Более того, чем больше денег вкладывается в «национальную эстраду» — тем в большую дешёвку она превращается. Этот парадокс, безусловно, должен стать объектом отдельного культурологического исследования в будущем.
Ф.Б.: Было ли так всегда, или в прошлом условия были более благоприятными?
А.Х.: Многие талантливые ребята, к огромному сожалению, уходят из профессии, я имею в виду, что они остаются членами Союзов композиторов, но практически не развиваются. Ранее, ещё в 1990-е – 2000-е годы, авторы могли довольно бедно, скромно, но всё-таки жить только своим творчеством. По крайней мере, у них приобретались сочинения, постоянно издавались их ноты, им выплачивались авторские отчисления. Было огромное количество журналов на национальных языках — как башкирские, так и татарские, чувашские, марийские журналы, газеты для взрослых, молодёжи, где постоянно публиковались песни, и это оплачивалось. Раньше даже в районах, в глухих сёлах были аккомпаниаторы, способные подыграть на баяне, выучить новые сочинения. Сейчас это оплачивается смешными, даже оскорбительными суммами. Пространство искусства, в котором находятся и которое пытаются сохранять профессиональные композиторы-академисты в национальных республиках России, всё больше сужается из-за вышеупомянутого одновременного давления сверху и снизу.
Ф.Б.: Я прослушал антологию симфонической башкирской музыки. Она составлялась в 2000-е? Наверное, она может дать общее представление о музыке этого времени?
А.Х.: Нет, некоторые записи сделаны гораздо раньше, а в целом процесс записи проходил с 1996 по 2003 год.
Ф.Б.: В некоторых симфониях слышны национальные черты, а в других просто ощущается советский колорит.
А.Х.: В ней представлено почти всё, начиная с 1950-х годов по 1990-е. Много музыки из 1980-х и 1990-х. Из 1930-х годов немного — только «Вальс» Газиза Альмухаметова. В то время в Башкирии ещё не было оркестра, даже оперный театр ещё не был открыт. Увертюра Халика Заимова, по-моему, уже 1950-х годов. Из сочинений башкирских авторов 1990-х записана только первая половина (созданные до 1995–1996 г.). Новой антологии пока нет, и неизвестно, когда она появится.
Ф.Б.: Если создавать традиционный ансамбль или пытаться использовать его принципы в рамках обычных составов, то в исполнительской практике таких коллективов, наверное, будут удобны два способа спонтанного музицирования: с метроритмикой аруза и с метроритмикой дастана или кубаира. Сталкивались ли Вы с этим? Есть ли такое в башкирской музыке?
А.Х.: Ансамбли такого рода периодически возникают. Однако в 1990-е — в годы Суверенитета — как я уже говорил, было гораздо больше возможностей для поиска нового. В это время и в начале 2000-х было открыто много интересных направлений, в том числе экспериментальных, но они сейчас не развиваются. Я думаю, что они будут потихоньку осмысляться в ближайшие полвека, но развиваться они не могут из-за давления сверху и снизу, о котором я уже говорил.
К сожалению, сейчас не самое лучшее время для творцов. Однако, как говорил Гегель, «сова Минервы вылетает в сумерки». Именно в полутьме, когда мысль, философия «рисует серой краской по серому», когда всё смутно, неясно, когда, как он пишет «некая форма жизни стала старой» — именно тогда сова Минервы и отправляется в путь. Сейчас то время, когда мы находимся даже не во тьме, а в сумерках, в «преддверии», сам провал ещё впереди. Мы только ещё в самом начале падения, увы. Я исхожу из понимания существующей ситуации, глядя на её историческую позицию относительно всего предыдущего.
Ф.Б.: Насколько реальна вообще идея воссоздания традиционного ансамбля или оркестра?
А.Х.: Практически во всех республиках есть народные оркестры при филармониях. Но все они функционируют как симулякры оркестров русских народных инструментов и созданы по их образцу. Руководители этих коллективов в один голос жалуются на нехватку национального репертуара, но главная проблема не в этом. Стихия подлинного этнического музицирования — это импровизация, тотальная и не допускающая никаких компромиссов с артифицированными видами исполнительства (с разучиванием партий, репетициями и др.). Но в действующих народных оркестрах сидят сплошь «нотники», абсолютно беспомощные в искусстве импровизации и неспособные к нему. Поэтому звучание этих оркестров в целом напоминает трактирный жанр — имитацию национального искусства. Почему-то Мусоргский, Чайковский, Стравинский, Свиридов сумели выразить глубины русского этнического мирочувствования без балалайки и баяна — они им для этого не понадобились…
Что же касается средневековой музыки тюрко-татарских государств (в первую очередь — золотоордынских придворных оркестров), то по историческим свидетельствам и некоторым косвенным доказательствам — в Сарай-Бату и Сарай-Берке действительно были оркестры, похожие на янычарские. О янычарских оркестрах довольно многое известно, потому что в начале XX века они ещё существовали в Стамбуле.
Ф.Б.: Янычарский оркестр, наверное, имел больший налёт европеизма, нежели золотоордынский.
А.Х.: Об этом можно рассуждать только на уровне предположений. Когда приезжал в Москву и давал концерт в Рахманиновском зале МГУ в 2014 году очень хороший суфийский ансамбль из Стамбула и озвучивал суфийские кружения ордена Мевлеви, я случайно попал на их концерт, пообщался с ними, фрагмент концерта даже записал на видео. Огромное счастье османов в том, что им удалось сохранить слуховую преемственность своей традиционной музыки — именно в её средневековом аристократическом и придворном контексте.
Ф.Б.: Да, вроде бы я знаю, о каком концерте идёт речь. Эта запись есть на просторах ютуба.
А.Х.: В наше время воссоздать традиционный, аутентичный татарский или башкирский ансамбль невозможно. То, что сейчас представляется под его видом (и примеров чего достаточно на смотрах районной самодеятельности), — это всего лишь имитация. Причём имитация одновременно и искусства, и этничности. Возникло даже такое понятие — «профессиональные башкиры». Так с юмором называют тех, кто превратил собственную этническую идентичность в источник дохода. Будучи абсолютно вестернизированными в своей бытовой и личной жизни, дома разговаривая только на русском языке, они используют этническую семиотику как средство самореализации в своей сценической деятельности (или в «экранной реальности» ТВ). Востребованность подобного явления в нашей повседневности превращается в ситуацию товарно-денежного обмена: знак национальной аутентичности разменивается на абсолютный космополитизм денежного эквивалента.
Ф.Б.: Мне кажется, отталкиваясь от своего слухового опыта, татары и башкиры могут приблизительно представить то, как это должно звучать. Думаю, от этого нужно исходить. Не могла же вся память быть стёрта?
А.Х.: Я думаю, что она не стёрлась, просто существующий этнический слуховой опыт в наше время непоправимо повреждается из-за агрессивного действия СМИ, радио и ТВ. Я был лично знаком с замечательным татарским композитором Шамилем Шарифуллиным — человеком, чьё творчество стало подлинным прорывом, открывшим в 1970-е совершенно новые пути. И, что ещё важнее, Шарифуллин имел огромную смелость и упорство доказать, что аутентичная, сохраняющаяся с дореволюционной поры татарская музыкальная традиция — это тот вечный и неиссякаемый ресурс этнической идентичности, который при бережном и внимательном обращении может служить источником вдохновения бесконечно. Причём делал он это в один из самых неблагоприятных периодов её сущестования.
Мой отец1 дружил с Шарифуллиным в годы их совместной учёбы в Казанской консерватории (в начале 1970-х), он хотел, чтобы я у него учился. И где-то в ноябре 1989 года мы приехали в Казань на встречу с ним. Как раз в это время я заканчивал четвёртый курс Уфимского училища искусств. Мы часов шесть просидели в его классе, он был человеком увлекающимся и долго рассказывал о подлинных корнях татарской музыки — о том, что в ней слились две волны: фольклорная и аристократическая, пришедшая из Самарканда и Бухары, и что они естественным образом взаимообогащали друг друга (в советское время признавалось существование только первой). Позднее заведующий кафедрой композиции Московской консерватории А.С. Леман пообещал взять меня в свой класс, и я решил всё-таки поступать к нему.
Шамиль Шарифуллин намного опередил своё время: он поступал совершенно правильно, собирая татарский фольклор не в Татарстане, не в мишарской среде, не в Ульяновской, Пензенской или Нижегородской областях. Он ездил либо в Аскинский, Татышлинский районы (север Башкирии), либо записывал его на Урале. В этих местах существовали небольшие замкнутые татарские деревни, в которых нетронутым остался фольклор, сохранившийся со времени бегства татар из Поволжья в XVII–XVIII веках. Такое их изолированное положение среди русского, башкирского, чувашского окружения (в 1970-х) при тогдашней ещё неразвитости СМИ позволило сохраниться средневековым формам музыкального фольклора. В сочинениях Шамиля Шарифуллина совершенно чётко идентифицируются сохранившиеся в фольклоре этих регионов ритмы, метрика, мелизматика, мотивы явно ордынского генеза (пришедшие из Средней Азии и Ирана на Волгу и затем «эвакуированные» на Урал в связи с катастрофой 1552 года и сохранявшиеся там столетиями).
Ф.Б.: В интернете можно найти архивные записи игры на курае. В антологии «Узляу», посвящённой горловому пению народов Саян, Алтая и Уральских гор, есть запись, в которой курай звучит непривычно, ближе к монгольскому цууру. Вы не знакомы с этими записями?
А.Х.: Конечно, знаком. Более того, на генез башкирского жанра протяжной песни озон-кюй (буквально — «длинная песня») в огромной степени повлиял жанр монгольской песни уртын дуу («долгая песня»). Она называется так не в связи с её продолжительностью, а из-за того, что каждый слог может распеваться на большое количество нот: так, к примеру, в четырёхминутной песне может быть только 10–20 коротких слов! Как известно, доминирование монгольской культуры в Поволжье и на Южном Урале в XIII–XIV века было всеобъемлющим, в какой-то мере сохраняясь и в дальнейшем в Золотой Орде (в состав которой входили и башкирские земли).
Ф.Б.: Популярная музыка льётся из радиостанций со всех сторон. Можно ли не попасть под её влияние?
А.Х.: Да, можно, повторяя прекрасные слова А.С. Пушкина: «Самостоянье Человека, залог величия его». И не нужно здесь «изобретать велосипед». Одно только неустанное саморазвитие и внутреннее непоколебимое противостояние манипуляциям и ласковым искушениям «мира сего» возвращает Человека к самому себе. Идея «созидания самого себя» (Selbst-Konstruktion), заявленная в начале XIX века Фихте и Шеллингом, остаётся актуальной и неотменима по сей день.
Однако сегодняшнее решение времени абсолютно иное — заигрывать с самой ограниченной, необразованной и недалёкой частью наших народов, «лаская» их неразвитый слух и увеличивая этим общую художественную деградацию общества. Даже термин специальный возник — «этнопохабщина». Он описывает новый тип бытования национальных музыкальных культур народов России. Тем не менее, если на краткосрочных участках времени такое «заигрывание» и увеличивает вожделенную общественную «стабильность» — то в долгосрочной перспективе это, безусловно, сыграет отрицательную роль.
Ф.Б.: Если представить идеальный сценарий развития башкирской и татарской музыки, что бы они из себя представляли сегодня? Какие типы музыки были бы доступны?
А.Х.: Я абсолютно уверен в том, что путь «профессиональных башкир» тупиковый. Как я уже говорил выше, это путь всё увеличивающегося отчуждения от Истины этнического Бытия, путь спекуляций на национальной тематике и манипуляции нашими народами за счёт неестественного «выпячивания» и эксплуатации этнической семиотики, отрыв её от профессионального музицирования и композиции, попытка «распылить» глубинное, аутентичное богатейшее содержание любой национальной музыкальной традиции и свести его исключительно к бытованию в виде сценического этношоу с использованием фонограмм.
Каким я вижу «идеальный сценарий развития татарской и башкирской музыки»? Абсолютно неоригинальным. В точности таким же, полным трудностей и отчаянной борьбы с равнодушием власти и населения, каким и был путь всех национальных музыкальных культур Восточной Европы: русской (в творчестве Мусоргского и Римского-Корсакова), венгерской (Барток и Кодай), эстонской (Тормис и Тююр), армянской (Тертерян)... Каждый из них смог не только реализовать личный авторский потенциал, но и представить образцы своей этнической аутентичности как достояние всего Человечества, только этим подняв их на высочайший художественный уровень! Именно благодаря этому искусство данных наций может не испытывать никакого беспокойства относительно своего будущего.
А вот отсутствие сбалансированности, абсолютно неестественный крен в сторону развлекательной составляющей в современной татарской и башкирской музыке как раз и вызывает особую тревогу. Для её продуктивного развития необходимо в первую очередь существование на поддерживаемой властью, интеллигенцией и бизнес-структурами основе четырёх составляющих «этнического музыкального высказывания» —
Ф.Б.: Если бы было какое-то специфическое радио традиционной музыки, какой репертуар бы Вы в него включили?
А.Х.: Это пока из области мечтаний. Сразу создать такое, мне кажется, пока невозможно. Наверное, мусульманское радио с трансляцией сур и аятов из Корана, хадисов и салаватов, восхваляющих Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), могло бы в будущем стать его основой.
Ф.Б.: Могла ли сложиться собственная теория татарской и башкирской музыки по типу, например, иранской или индийской традиции? Какие акценты были бы в ней расставлены? Знаю, например, что до революции целая плеяда авторов создавала теорию татарской музыки на основе арабоязычной традиции, тот же Хасан-Гата Габяши и другие.
А.Х.: О попытках создания «теории татарской музыки на основе арабоязычной традиции» мне неизвестно. Я знаком только с публикациями А.Л. Маклыгина — замечательного музыковеда, профессора и доктора искусствоведения — о теоретических работах Султана Габяши, где он «нащупывает» новые основания звуковысотной системы татарской музыки, которые могли бы строиться на модальном принципе, исходя из пентатонической основы музыкального фольклора. Это очень интересное начинание, к сожалению, не получило дальнейшего развития: на рубеже 1920-х – 1930-х годов на Габяши и его соратника Газиза Альмухаметова обрушились репрессии (в Казани даже возник такой оскорбительный термин — «габяшизм», которым обозначался якобы националистический «уклон» их музыки!), и они были вынуждены бежать в Уфу2. Дальнейшего продолжения теоретические изыскания Султана Габяши, увы, не получили…
Ф.Б.: Вернёмся всё-таки к татарскому и башкирскому оркестру. Возможен ли он? Какие инструменты Вы бы задействовали в нём? (На мой слух, жутко звучит добавленная во все народные оркестры ударная установка.) Или лучше отказаться от такой задумки и пользоваться более удобными составами симфонического оркестра, добавляя к нему отдельных солистов?
А.Х.: Как я уже сказал выше — этот оркестр может состояться только как «большой импровизирующий ансамбль», «нотников» там быть не должно. Поэтому и использование «симфонического оркестра с соло на этнических инструментах» также не даст прорыва. Нужно идти от тембральности и сонантности, а не от уже сложившихся и «комфортных для слуха потребителя» структур композиторского письма или инструментария (я абсолютно согласен с Вашей мыслью о том, что «добавленная во все народные оркестры ударная установка жутко звучит»). Необходимо искать и находить прямо во время музицирования на сцене, в процессе концертирования некие ритмоформулы, которые бы развивались, переходя от одного инструмента к другому, «блуждая» по регистрам и разнообразно тембрально окрашиваясь. Такие ритмоформулы, своего рода «кванты» музыкального высказывания, могли бы становиться либо остинатными (константными), либо «случайными» (мобильными) его единицами — возникать и исчезать в любое время.
Однако опять же, не стоит «изобретать велосипед» — эти композиционно-импровизационные принципы уже давно воплощены в североиндийской и пакистанской музыкальной традиции каввали. Главное в них — это использование разнообразной тембральности в рамках различных глубоко разработанных (можно даже сказать изощрённых) типов работы со временем.
Музыканту, желающему серьёзно развивать этническое искусство, следует «подавлять в себе “нотника”» и развиваться самому, с целью достичь в своём исполнительстве «самоорганизующегося времени», возникающего в коллективных практиках (которое может и должно продолжаться часами), — двигаться именно в сторону развития способностей и умений создавать «продуктивное, порождающее темпоральное высказывание». Великолепные подобные образцы мы находим, к примеру, в сценических воплощениях Momentform Штокхаузена.
Ф.Б.: Слышал, что примерно в этом направлении Вы намечаете новый проект совместно с ансамблем «Студия новой музыки» Московской консерватории.
А.Х.: Действительно, Вы правы. В планах есть такой проект.
Ф.Б.: Вы написали несколько сочинений для традиционных инструментов, среди которых есть пьеса «Дала һулышы». Что это за произведение?
А.Х.: Пьеса «Дала һулышы» (с башкирского на русский не очень точно можно перевести как «трепет, волнение Степи») для кыл-кубыза с оркестром написана в 2012 году3. Каждый, кто встречал рассвет в ясное утро знает, что перед появлением Солнца Землю заливает удивительный тёплый розовый свет, ещё в предрассветном мраке начинают петь птицы. Оно встаёт очень быстро (в городе такое не увидишь — мешают высотные дома) и сразу заливает всё своим нестерпимо ярким светом.
Передо мной стояла абсолютно тембральная и сонантная задача — воплотить в звуковом высказывании то, как звучит тот самый «удивительный тёплый предрассветный розовый свет, разливающийся по степи». И мне представилось, что чуть глуховатый грудной и одновременно пронзительный тембр кыл-кубыза идеально подходит для этого. А получилось это или нет — об этом судить публике.
Ф.Б.: Какие ещё подобные свои сочинения Вы бы отметили?
А.Х.: Я бы назвал своё Трио al-Samaa и «Мугам-симфонию», где целенаправленно применены принципы Momentform, где инструменты симфонического оркестра по-разному имитируют приёмы и способы фольклорного музицирования, где также ведётся поиск новых типов «работы с временем, порождающим высказывание».
Ф.Б.: Когда слушаю авторскую иранскую музыку, в некоторых композициях бросаются в глаза «барочные черты». Нельзя исключать, конечно, что они не утрированы авторами намеренно, но вероятно, такое сходство уже заложено внутри этой музыки. Вы, как организатор множества проектов и с джазовой, и с барочной музыкой, не замечали ли такого подобия?
А.Х.: И джазовая, и барочная музыка обладают единой, актуализированной ещё «до звукового текста» импровизационной основой. Предполагаю, что те «барочные черты авторской иранской музыки», о которых Вы говорите, имеют отношение к системе риторик и поэтик — к «закреплённым стилистическим единицам музыкального высказывания», которые в такой древней культуре, как иранская, должны были уже давно устояться и существовать как «ритмоформульные» и тембральные единицы.
Ф.Б.: Вы много лет преподаёте. Как воспитать татарского или башкирского композитора в XXI веке? Реально ли это? Должно ли быть такое тяготение, или хороший музыкальный вкус заложен у музыканта изначально?
А.Х.: Уверен, что это не только реально, но и совершенно необходимо! Однако изначального «хорошего музыкального вкуса» в области этничности у новых поколений нет уже годов так с 1950-х (большевики позаботились об этом в своё время). Поэтому только воспитанием извне и самовоспитанием изнутри (вышеупомянутое Selbst-Konstruktion) можно этого добиться. Это самый сложный — но и единственно возможный продуктивный путь.
А.Х. (Азамат Хасаншин): Большая часть национально окрашенной электроники является чисто коммерческой. Здесь, в Уфе, были попытки создания акусматических композиций [сочинения, решённые исключительно электронными средствами, без участия исполнителей — примечание автора]. В один из приездов профессора Московской консерватории Игоря Леонидовича Кефалиди в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии к нам в вуз (в середине 2010-х), он предлагал открыть в республике центр электроакустической музыки. Этот вопрос поднимался в то время в Министерстве культуры республики — но, как обычно, это всё пошло в никуда.
В качестве самостоятельного вида музыкального искусства акусматическая композиция в Башкирии не существует. Что же касается «прикладной» электронной музыки, то она (как и везде в мире) активно используется как звуковое приложение к кино, очень востребована в сфере популярной музыки. Этническая электронная музыка имеет огромный потенциал, но практически всегда она остаётся на уровне сопровождения сценического действия, в качестве фонограмм для уличных концертов, в коммерческих пространствах, в фоновом варианте, в виде некоего «лаунжа». С моей точки зрения, такая её прикладная разновидность не имеет и даже не предусматривает никакой художественной ценности.
К сожалению, и в Казани в основном ситуация такая же: новые технологии используются только для того, чтобы хоть как-то «оживить» устоявшиеся — безнадёжно устаревшие, архаизированные этнические формы выразительности: бесконечные этношоу, песни-пляски самодеятельности и правительственные концерты. И в итоге: кроме шума и сотрясения воздуха — никакого результата.
Это и есть главная проблема культуры и искусства национальных республик — отсутствие результатов подобной «бурной деятельности» и траты просто колоссального, невероятного количества финансов. Подобное их «освоение» не приводит ни к какому итогу или положительному следствию. Напротив, сейчас необходимо использовать имеющийся ресурс на совершенно другое — на достижение определённого результата: в первую очередь — на трансформацию безнадёжно устаревшей этнической художественной реальности, на создание механизма по подготовке и продвижению лучших сочинений национального искусства народов России в общероссийское и / или международное культурное пространство.
Ф.Б.: Перспективна ли сфера акусматической композиции?
А.Х.: Эта сфера, конечно же, перспективна, но, во-первых, она требует серьёзных финансовых вложений (без каких-либо надежд их возвратить).
Во-вторых, это музыка для тех, кто уже предварительно имеет огромный слуховой опыт («наслушанность»), полученный из самых различных областей и «исторических этапов» академической музыки (то есть не только эпох классицизма и романтизма, но и первого и второго авангарда). Только так, самому обладая «устойчивой слуховой моделью» исторического процесса музыки, можно воспринять акусматическую композицию как абсолютно закономерно возникшую аудиальную сферу бытия европейского музыкального академизма, как совершенно естественное «ожидаемое» явление, как часть модерна и постмодерна. Много таких слушателей у нас?
В-третьих, в этой области должны работать не все композиторы, а только те, кто имеет не только глубокие познания в этой области (включая технологические) — но и абсолютную уверенность в правильности того, что они делают; они должны быть готовы не только на негативную реакцию публики, но даже — и на отсутствие какой-либо реакции. Государству этот вид творчества мало интересен. Какое количество публики собирают концерты акусматической музыки в Москве? Был ли в прошлом году подобный концерт в рамках фестиваля «Московская осень»?
Ф.Б.: Точно не знаю.
А.Х.: Вот раньше всегда был. Я был ещё студентом и присутствовал на открытии Центра электроакустической музыки осенью, кажется, 1992 года; тогда он располагался в корпусе бывшего Белого зала на верхнем этаже под крышей. Помню очень хорошо, что там вёл занятия Андрей Смирнов.
Ф.Б.: Насколько успешно применяется традиционный инструментарий в этой сфере? Как-то разговаривал с Николаем Поповым о внедрении в такую композицию звучания курая и чтения нараспев Корана. У него, видимо, к этому двоякое отношение. С одной стороны, положительное, а с другой — отрицательное, поскольку звучание опознаваемой мелодии может рассматриваться как плагиат тембра.
А.Х.: Зачастую всё это лишь попытка создать инновационный продукт, а затем его капитализировать. С моей точки зрения, движение идёт только в этом направлении. Пока никаких попыток перевести акусматическую музыку в этнический формат в национальных культурах нашей страны я не встречал. В основном мы наблюдаем создание инновационных аудиальных этнических «объёмов звучания» или имитацию уже существующих тембров этнических инструментов — нет развития, синтеза, совмещения их со звучаниями, скажем, инструментов академической или джазовой музыки. Например, башкирская народная музыка чрезвычайно богата мелизматикой, линеарной мотивной работой, изощрённостью мелодики. Всё это могло бы стать основой для создания принципиально новых звуковых технологических подходов для её осмысления и переосмысления.
Однако пока происходит просто манипуляция существующими интересами публики. Сэмплирование, биты — это сугубо коммерческий подход. Те, кто работают в этой сфере, пытаются использовать только уже имеющееся — но не хотят создавать новые этнические «звуковые пространства», потому что это невозможно ни монетизировать, ни предложить государственным учреждениям культуры. Когда любые разработки «электронного этно» уже изначально вложены в «универсальную» квадратную метрику европейской эстрады — в этом случае, естественно, игнорируется специфика и уникальность чувства времени, присущего каждой национальной культуре.
Ф.Б.: При работе с традиционной музыкой приходится считаться и с научными исследованиями, и с современной практикой. Если более выражена какая-то одна из сфер, появляется продукт, далёкий от реальности, либо не представляющий художественной ценности.
А.Х.: Да, для исследования традиционной музыки нужно отталкиваться не только от существующих практик бытования. К сожалению, последние в сферах этнической башкирской и татарской музыки очень часто действуют абсолютно разрушительно в творческом плане, не оставляя никаких «свободных или нейтральных пространств».
Сфера этнической музыки в республиках либо находится под очень жёстким руководством власти (где совершенно нет компетентных специалистов) — под прессингом «сверху», либо захватывается коммерческим подходом «снизу». В последнем случае она довольно быстро заполняется людьми без соответствующего профессионального образования. Нот они не знают, они им не нужны так же, как и знания об истории академической музыки их народов. С творчеством Назиба Жиганова, Алмаза Монасыпова, Газиза Альмухаметова, Султана Габяши, Мурада Ахметова они незнакомы, эти имена им ничего не говорят. Более того, чем больше денег вкладывается в «национальную эстраду» — тем в большую дешёвку она превращается. Этот парадокс, безусловно, должен стать объектом отдельного культурологического исследования в будущем.
Ф.Б.: Было ли так всегда, или в прошлом условия были более благоприятными?
А.Х.: Многие талантливые ребята, к огромному сожалению, уходят из профессии, я имею в виду, что они остаются членами Союзов композиторов, но практически не развиваются. Ранее, ещё в 1990-е – 2000-е годы, авторы могли довольно бедно, скромно, но всё-таки жить только своим творчеством. По крайней мере, у них приобретались сочинения, постоянно издавались их ноты, им выплачивались авторские отчисления. Было огромное количество журналов на национальных языках — как башкирские, так и татарские, чувашские, марийские журналы, газеты для взрослых, молодёжи, где постоянно публиковались песни, и это оплачивалось. Раньше даже в районах, в глухих сёлах были аккомпаниаторы, способные подыграть на баяне, выучить новые сочинения. Сейчас это оплачивается смешными, даже оскорбительными суммами. Пространство искусства, в котором находятся и которое пытаются сохранять профессиональные композиторы-академисты в национальных республиках России, всё больше сужается из-за вышеупомянутого одновременного давления сверху и снизу.
Ф.Б.: Я прослушал антологию симфонической башкирской музыки. Она составлялась в 2000-е? Наверное, она может дать общее представление о музыке этого времени?
А.Х.: Нет, некоторые записи сделаны гораздо раньше, а в целом процесс записи проходил с 1996 по 2003 год.
Ф.Б.: В некоторых симфониях слышны национальные черты, а в других просто ощущается советский колорит.
А.Х.: В ней представлено почти всё, начиная с 1950-х годов по 1990-е. Много музыки из 1980-х и 1990-х. Из 1930-х годов немного — только «Вальс» Газиза Альмухаметова. В то время в Башкирии ещё не было оркестра, даже оперный театр ещё не был открыт. Увертюра Халика Заимова, по-моему, уже 1950-х годов. Из сочинений башкирских авторов 1990-х записана только первая половина (созданные до 1995–1996 г.). Новой антологии пока нет, и неизвестно, когда она появится.
Ф.Б.: Если создавать традиционный ансамбль или пытаться использовать его принципы в рамках обычных составов, то в исполнительской практике таких коллективов, наверное, будут удобны два способа спонтанного музицирования: с метроритмикой аруза и с метроритмикой дастана или кубаира. Сталкивались ли Вы с этим? Есть ли такое в башкирской музыке?
А.Х.: Ансамбли такого рода периодически возникают. Однако в 1990-е — в годы Суверенитета — как я уже говорил, было гораздо больше возможностей для поиска нового. В это время и в начале 2000-х было открыто много интересных направлений, в том числе экспериментальных, но они сейчас не развиваются. Я думаю, что они будут потихоньку осмысляться в ближайшие полвека, но развиваться они не могут из-за давления сверху и снизу, о котором я уже говорил.
К сожалению, сейчас не самое лучшее время для творцов. Однако, как говорил Гегель, «сова Минервы вылетает в сумерки». Именно в полутьме, когда мысль, философия «рисует серой краской по серому», когда всё смутно, неясно, когда, как он пишет «некая форма жизни стала старой» — именно тогда сова Минервы и отправляется в путь. Сейчас то время, когда мы находимся даже не во тьме, а в сумерках, в «преддверии», сам провал ещё впереди. Мы только ещё в самом начале падения, увы. Я исхожу из понимания существующей ситуации, глядя на её историческую позицию относительно всего предыдущего.
Ф.Б.: Насколько реальна вообще идея воссоздания традиционного ансамбля или оркестра?
А.Х.: Практически во всех республиках есть народные оркестры при филармониях. Но все они функционируют как симулякры оркестров русских народных инструментов и созданы по их образцу. Руководители этих коллективов в один голос жалуются на нехватку национального репертуара, но главная проблема не в этом. Стихия подлинного этнического музицирования — это импровизация, тотальная и не допускающая никаких компромиссов с артифицированными видами исполнительства (с разучиванием партий, репетициями и др.). Но в действующих народных оркестрах сидят сплошь «нотники», абсолютно беспомощные в искусстве импровизации и неспособные к нему. Поэтому звучание этих оркестров в целом напоминает трактирный жанр — имитацию национального искусства. Почему-то Мусоргский, Чайковский, Стравинский, Свиридов сумели выразить глубины русского этнического мирочувствования без балалайки и баяна — они им для этого не понадобились…
Что же касается средневековой музыки тюрко-татарских государств (в первую очередь — золотоордынских придворных оркестров), то по историческим свидетельствам и некоторым косвенным доказательствам — в Сарай-Бату и Сарай-Берке действительно были оркестры, похожие на янычарские. О янычарских оркестрах довольно многое известно, потому что в начале XX века они ещё существовали в Стамбуле.
Ф.Б.: Янычарский оркестр, наверное, имел больший налёт европеизма, нежели золотоордынский.
А.Х.: Об этом можно рассуждать только на уровне предположений. Когда приезжал в Москву и давал концерт в Рахманиновском зале МГУ в 2014 году очень хороший суфийский ансамбль из Стамбула и озвучивал суфийские кружения ордена Мевлеви, я случайно попал на их концерт, пообщался с ними, фрагмент концерта даже записал на видео. Огромное счастье османов в том, что им удалось сохранить слуховую преемственность своей традиционной музыки — именно в её средневековом аристократическом и придворном контексте.
Ф.Б.: Да, вроде бы я знаю, о каком концерте идёт речь. Эта запись есть на просторах ютуба.
А.Х.: В наше время воссоздать традиционный, аутентичный татарский или башкирский ансамбль невозможно. То, что сейчас представляется под его видом (и примеров чего достаточно на смотрах районной самодеятельности), — это всего лишь имитация. Причём имитация одновременно и искусства, и этничности. Возникло даже такое понятие — «профессиональные башкиры». Так с юмором называют тех, кто превратил собственную этническую идентичность в источник дохода. Будучи абсолютно вестернизированными в своей бытовой и личной жизни, дома разговаривая только на русском языке, они используют этническую семиотику как средство самореализации в своей сценической деятельности (или в «экранной реальности» ТВ). Востребованность подобного явления в нашей повседневности превращается в ситуацию товарно-денежного обмена: знак национальной аутентичности разменивается на абсолютный космополитизм денежного эквивалента.
Ф.Б.: Мне кажется, отталкиваясь от своего слухового опыта, татары и башкиры могут приблизительно представить то, как это должно звучать. Думаю, от этого нужно исходить. Не могла же вся память быть стёрта?
А.Х.: Я думаю, что она не стёрлась, просто существующий этнический слуховой опыт в наше время непоправимо повреждается из-за агрессивного действия СМИ, радио и ТВ. Я был лично знаком с замечательным татарским композитором Шамилем Шарифуллиным — человеком, чьё творчество стало подлинным прорывом, открывшим в 1970-е совершенно новые пути. И, что ещё важнее, Шарифуллин имел огромную смелость и упорство доказать, что аутентичная, сохраняющаяся с дореволюционной поры татарская музыкальная традиция — это тот вечный и неиссякаемый ресурс этнической идентичности, который при бережном и внимательном обращении может служить источником вдохновения бесконечно. Причём делал он это в один из самых неблагоприятных периодов её сущестования.
Мой отец1 дружил с Шарифуллиным в годы их совместной учёбы в Казанской консерватории (в начале 1970-х), он хотел, чтобы я у него учился. И где-то в ноябре 1989 года мы приехали в Казань на встречу с ним. Как раз в это время я заканчивал четвёртый курс Уфимского училища искусств. Мы часов шесть просидели в его классе, он был человеком увлекающимся и долго рассказывал о подлинных корнях татарской музыки — о том, что в ней слились две волны: фольклорная и аристократическая, пришедшая из Самарканда и Бухары, и что они естественным образом взаимообогащали друг друга (в советское время признавалось существование только первой). Позднее заведующий кафедрой композиции Московской консерватории А.С. Леман пообещал взять меня в свой класс, и я решил всё-таки поступать к нему.
Шамиль Шарифуллин намного опередил своё время: он поступал совершенно правильно, собирая татарский фольклор не в Татарстане, не в мишарской среде, не в Ульяновской, Пензенской или Нижегородской областях. Он ездил либо в Аскинский, Татышлинский районы (север Башкирии), либо записывал его на Урале. В этих местах существовали небольшие замкнутые татарские деревни, в которых нетронутым остался фольклор, сохранившийся со времени бегства татар из Поволжья в XVII–XVIII веках. Такое их изолированное положение среди русского, башкирского, чувашского окружения (в 1970-х) при тогдашней ещё неразвитости СМИ позволило сохраниться средневековым формам музыкального фольклора. В сочинениях Шамиля Шарифуллина совершенно чётко идентифицируются сохранившиеся в фольклоре этих регионов ритмы, метрика, мелизматика, мотивы явно ордынского генеза (пришедшие из Средней Азии и Ирана на Волгу и затем «эвакуированные» на Урал в связи с катастрофой 1552 года и сохранявшиеся там столетиями).
Ф.Б.: В интернете можно найти архивные записи игры на курае. В антологии «Узляу», посвящённой горловому пению народов Саян, Алтая и Уральских гор, есть запись, в которой курай звучит непривычно, ближе к монгольскому цууру. Вы не знакомы с этими записями?
А.Х.: Конечно, знаком. Более того, на генез башкирского жанра протяжной песни озон-кюй (буквально — «длинная песня») в огромной степени повлиял жанр монгольской песни уртын дуу («долгая песня»). Она называется так не в связи с её продолжительностью, а из-за того, что каждый слог может распеваться на большое количество нот: так, к примеру, в четырёхминутной песне может быть только 10–20 коротких слов! Как известно, доминирование монгольской культуры в Поволжье и на Южном Урале в XIII–XIV века было всеобъемлющим, в какой-то мере сохраняясь и в дальнейшем в Золотой Орде (в состав которой входили и башкирские земли).
Ф.Б.: Популярная музыка льётся из радиостанций со всех сторон. Можно ли не попасть под её влияние?
А.Х.: Да, можно, повторяя прекрасные слова А.С. Пушкина: «Самостоянье Человека, залог величия его». И не нужно здесь «изобретать велосипед». Одно только неустанное саморазвитие и внутреннее непоколебимое противостояние манипуляциям и ласковым искушениям «мира сего» возвращает Человека к самому себе. Идея «созидания самого себя» (Selbst-Konstruktion), заявленная в начале XIX века Фихте и Шеллингом, остаётся актуальной и неотменима по сей день.
Однако сегодняшнее решение времени абсолютно иное — заигрывать с самой ограниченной, необразованной и недалёкой частью наших народов, «лаская» их неразвитый слух и увеличивая этим общую художественную деградацию общества. Даже термин специальный возник — «этнопохабщина». Он описывает новый тип бытования национальных музыкальных культур народов России. Тем не менее, если на краткосрочных участках времени такое «заигрывание» и увеличивает вожделенную общественную «стабильность» — то в долгосрочной перспективе это, безусловно, сыграет отрицательную роль.
Ф.Б.: Если представить идеальный сценарий развития башкирской и татарской музыки, что бы они из себя представляли сегодня? Какие типы музыки были бы доступны?
А.Х.: Я абсолютно уверен в том, что путь «профессиональных башкир» тупиковый. Как я уже говорил выше, это путь всё увеличивающегося отчуждения от Истины этнического Бытия, путь спекуляций на национальной тематике и манипуляции нашими народами за счёт неестественного «выпячивания» и эксплуатации этнической семиотики, отрыв её от профессионального музицирования и композиции, попытка «распылить» глубинное, аутентичное богатейшее содержание любой национальной музыкальной традиции и свести его исключительно к бытованию в виде сценического этношоу с использованием фонограмм.
Каким я вижу «идеальный сценарий развития татарской и башкирской музыки»? Абсолютно неоригинальным. В точности таким же, полным трудностей и отчаянной борьбы с равнодушием власти и населения, каким и был путь всех национальных музыкальных культур Восточной Европы: русской (в творчестве Мусоргского и Римского-Корсакова), венгерской (Барток и Кодай), эстонской (Тормис и Тююр), армянской (Тертерян)... Каждый из них смог не только реализовать личный авторский потенциал, но и представить образцы своей этнической аутентичности как достояние всего Человечества, только этим подняв их на высочайший художественный уровень! Именно благодаря этому искусство данных наций может не испытывать никакого беспокойства относительно своего будущего.
А вот отсутствие сбалансированности, абсолютно неестественный крен в сторону развлекательной составляющей в современной татарской и башкирской музыке как раз и вызывает особую тревогу. Для её продуктивного развития необходимо в первую очередь существование на поддерживаемой властью, интеллигенцией и бизнес-структурами основе четырёх составляющих «этнического музыкального высказывания» —
- академической музыки;
- этнической сольной, ансамблевой и оркестровой музыки (существующей на импровизационной и безфонограммной основе);
- этнически ориентированных коллективных практик музицирования (джаза, перформанса, актуального искусства);
- рок-композиций на национальных языках.
Ф.Б.: Если бы было какое-то специфическое радио традиционной музыки, какой репертуар бы Вы в него включили?
А.Х.: Это пока из области мечтаний. Сразу создать такое, мне кажется, пока невозможно. Наверное, мусульманское радио с трансляцией сур и аятов из Корана, хадисов и салаватов, восхваляющих Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), могло бы в будущем стать его основой.
Ф.Б.: Могла ли сложиться собственная теория татарской и башкирской музыки по типу, например, иранской или индийской традиции? Какие акценты были бы в ней расставлены? Знаю, например, что до революции целая плеяда авторов создавала теорию татарской музыки на основе арабоязычной традиции, тот же Хасан-Гата Габяши и другие.
А.Х.: О попытках создания «теории татарской музыки на основе арабоязычной традиции» мне неизвестно. Я знаком только с публикациями А.Л. Маклыгина — замечательного музыковеда, профессора и доктора искусствоведения — о теоретических работах Султана Габяши, где он «нащупывает» новые основания звуковысотной системы татарской музыки, которые могли бы строиться на модальном принципе, исходя из пентатонической основы музыкального фольклора. Это очень интересное начинание, к сожалению, не получило дальнейшего развития: на рубеже 1920-х – 1930-х годов на Габяши и его соратника Газиза Альмухаметова обрушились репрессии (в Казани даже возник такой оскорбительный термин — «габяшизм», которым обозначался якобы националистический «уклон» их музыки!), и они были вынуждены бежать в Уфу2. Дальнейшего продолжения теоретические изыскания Султана Габяши, увы, не получили…
Ф.Б.: Вернёмся всё-таки к татарскому и башкирскому оркестру. Возможен ли он? Какие инструменты Вы бы задействовали в нём? (На мой слух, жутко звучит добавленная во все народные оркестры ударная установка.) Или лучше отказаться от такой задумки и пользоваться более удобными составами симфонического оркестра, добавляя к нему отдельных солистов?
А.Х.: Как я уже сказал выше — этот оркестр может состояться только как «большой импровизирующий ансамбль», «нотников» там быть не должно. Поэтому и использование «симфонического оркестра с соло на этнических инструментах» также не даст прорыва. Нужно идти от тембральности и сонантности, а не от уже сложившихся и «комфортных для слуха потребителя» структур композиторского письма или инструментария (я абсолютно согласен с Вашей мыслью о том, что «добавленная во все народные оркестры ударная установка жутко звучит»). Необходимо искать и находить прямо во время музицирования на сцене, в процессе концертирования некие ритмоформулы, которые бы развивались, переходя от одного инструмента к другому, «блуждая» по регистрам и разнообразно тембрально окрашиваясь. Такие ритмоформулы, своего рода «кванты» музыкального высказывания, могли бы становиться либо остинатными (константными), либо «случайными» (мобильными) его единицами — возникать и исчезать в любое время.
Однако опять же, не стоит «изобретать велосипед» — эти композиционно-импровизационные принципы уже давно воплощены в североиндийской и пакистанской музыкальной традиции каввали. Главное в них — это использование разнообразной тембральности в рамках различных глубоко разработанных (можно даже сказать изощрённых) типов работы со временем.
Музыканту, желающему серьёзно развивать этническое искусство, следует «подавлять в себе “нотника”» и развиваться самому, с целью достичь в своём исполнительстве «самоорганизующегося времени», возникающего в коллективных практиках (которое может и должно продолжаться часами), — двигаться именно в сторону развития способностей и умений создавать «продуктивное, порождающее темпоральное высказывание». Великолепные подобные образцы мы находим, к примеру, в сценических воплощениях Momentform Штокхаузена.
Ф.Б.: Слышал, что примерно в этом направлении Вы намечаете новый проект совместно с ансамблем «Студия новой музыки» Московской консерватории.
А.Х.: Действительно, Вы правы. В планах есть такой проект.
Ф.Б.: Вы написали несколько сочинений для традиционных инструментов, среди которых есть пьеса «Дала һулышы». Что это за произведение?
А.Х.: Пьеса «Дала һулышы» (с башкирского на русский не очень точно можно перевести как «трепет, волнение Степи») для кыл-кубыза с оркестром написана в 2012 году3. Каждый, кто встречал рассвет в ясное утро знает, что перед появлением Солнца Землю заливает удивительный тёплый розовый свет, ещё в предрассветном мраке начинают петь птицы. Оно встаёт очень быстро (в городе такое не увидишь — мешают высотные дома) и сразу заливает всё своим нестерпимо ярким светом.
Передо мной стояла абсолютно тембральная и сонантная задача — воплотить в звуковом высказывании то, как звучит тот самый «удивительный тёплый предрассветный розовый свет, разливающийся по степи». И мне представилось, что чуть глуховатый грудной и одновременно пронзительный тембр кыл-кубыза идеально подходит для этого. А получилось это или нет — об этом судить публике.
Ф.Б.: Какие ещё подобные свои сочинения Вы бы отметили?
А.Х.: Я бы назвал своё Трио al-Samaa и «Мугам-симфонию», где целенаправленно применены принципы Momentform, где инструменты симфонического оркестра по-разному имитируют приёмы и способы фольклорного музицирования, где также ведётся поиск новых типов «работы с временем, порождающим высказывание».
Ф.Б.: Когда слушаю авторскую иранскую музыку, в некоторых композициях бросаются в глаза «барочные черты». Нельзя исключать, конечно, что они не утрированы авторами намеренно, но вероятно, такое сходство уже заложено внутри этой музыки. Вы, как организатор множества проектов и с джазовой, и с барочной музыкой, не замечали ли такого подобия?
А.Х.: И джазовая, и барочная музыка обладают единой, актуализированной ещё «до звукового текста» импровизационной основой. Предполагаю, что те «барочные черты авторской иранской музыки», о которых Вы говорите, имеют отношение к системе риторик и поэтик — к «закреплённым стилистическим единицам музыкального высказывания», которые в такой древней культуре, как иранская, должны были уже давно устояться и существовать как «ритмоформульные» и тембральные единицы.
Ф.Б.: Вы много лет преподаёте. Как воспитать татарского или башкирского композитора в XXI веке? Реально ли это? Должно ли быть такое тяготение, или хороший музыкальный вкус заложен у музыканта изначально?
А.Х.: Уверен, что это не только реально, но и совершенно необходимо! Однако изначального «хорошего музыкального вкуса» в области этничности у новых поколений нет уже годов так с 1950-х (большевики позаботились об этом в своё время). Поэтому только воспитанием извне и самовоспитанием изнутри (вышеупомянутое Selbst-Konstruktion) можно этого добиться. Это самый сложный — но и единственно возможный продуктивный путь.
Примечания:
- Данил Давлетшинович Хасаншин (1937 г.р.) — известный башкирской композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, автор десятков сочинений для симфонического оркестра, хора, сольных инструментов и др.
- Но и здесь их настигло сталинское «правосудие»: каждый день ожидая ареста, Габяши бежал из Уфы в глухую деревню Челкак Бураевского района, где и умер в 1942 году фактически от голода и авитаминоза. Ещё раньше, в 1938 году, был расстрелян его соратник Газиз Альмухаметов…
- Кыл-кубыз — старинный струнный двуструнный смычковый инструмент тюркских народов. Играют на кобызе коротким смычком, зажимая инструмент между коленями.
«Композиторские читки»
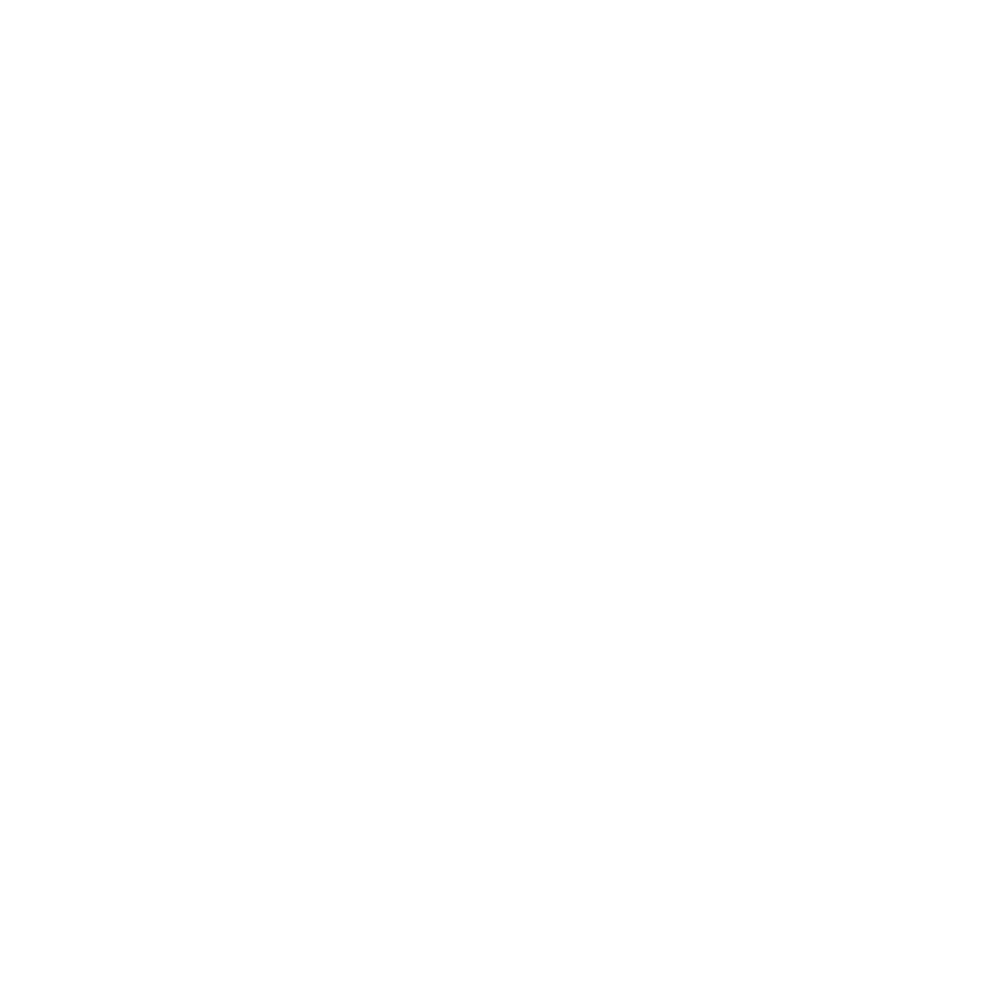
Владимир Жалнин
Музыковед и музыкальный журналист. Ведущий специалист организационно-творческого отдела Союза композиторов России. Менеджер спецпроектов журнала «Музыкальная академия»
Отметившие в этом году семилетний рубеж «Композиторские читки» остаются живым и актуальным проектом. Это лаборатория, где рождаются новые композиторские имена, оригинальные идеи и звучание. «Читки» — пространство эксперимента, в котором молодые авторы от 18 до 35 лет могут услышать собственные партитуры в исполнении профессиональных музыкантов, обсудить замысел с наставниками и увидеть, как музыка проходит реальный путь от черновика до первого исполнения на сцене.
Инициированный Союзом композиторов России в 2018 году, проект предлагал участникам создавать музыку для самых разных составов — от инструментальных ансамблей (в сотрудничестве с Московским ансамблем современной музыки) до хоров и вокальных коллективов (Altro Coro под управлением Александра Рыжинского и INTRADA Екатерины Антоненко). В 2025-м мы сделали новый шаг — предложили молодым композиторам поработать с уникальным оркестром баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории, а также клавишными гуслями и домрой. Наставниками выступили четыре композитора, специалисты по народным инструментам: художественный руководитель «Открытого космоса» Анна Поспелова, преподаватель Московской консерватории Олеся Евстратова, куратор сургутской галереи «Стерх» Сергей Зятьков и Венедикт Пеунов, художественный руководитель и дирижёр Баянного оркестра Нижегородской консерватории.
Участники «Композиторских читок» поделились своими впечатлениями:
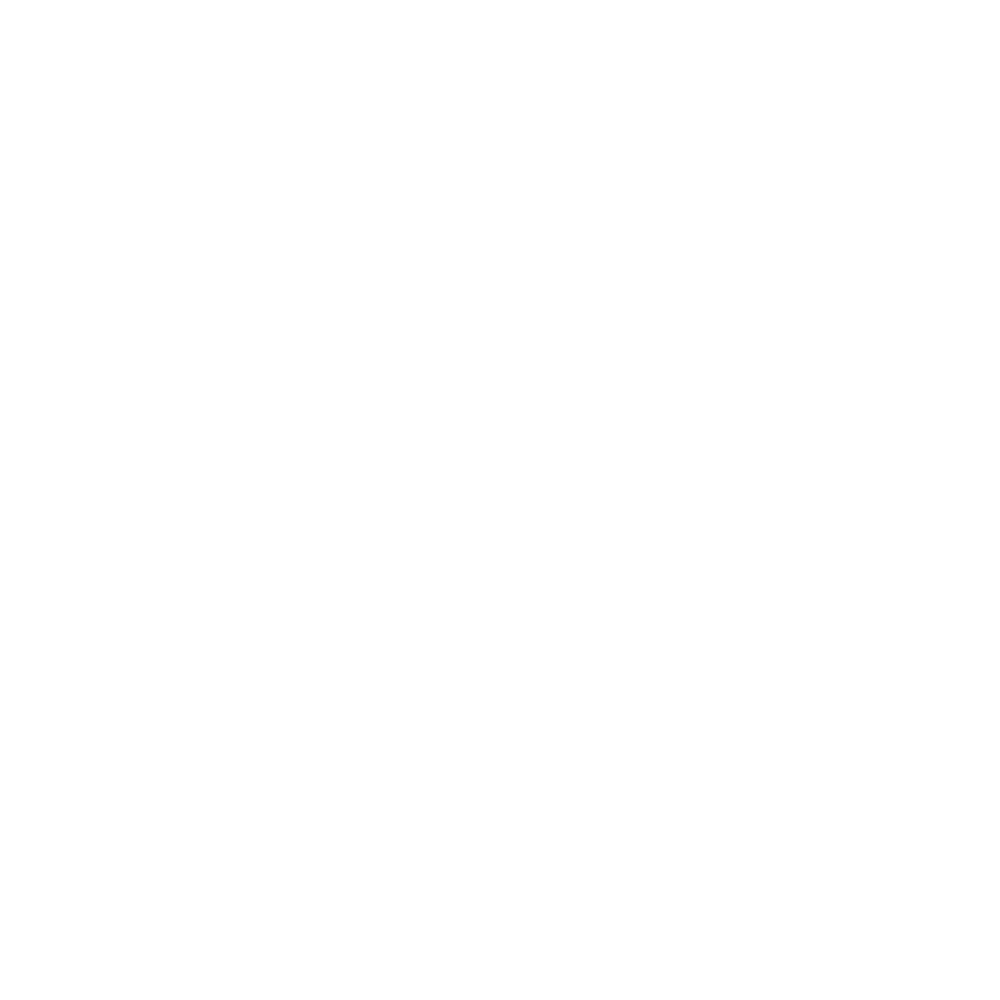
Алина мухаметрахимова о сочинении «Андроид В.» для оркестра баянов и аккордеонов:
Для проекта «Композиторские читки» я написала пьесу для оркестра баянов и аккордеонов, которая называется «Андроид В.», основываясь на любимом стихотворении Даны Сидерос «6-ТА-51». Это стихотворение о роботе, который из-за ошибки в программном коде вдруг возлюбил поэзию. Этот образ давно не давал мне покоя, и когда был объявлен опен-колл на «Читки», я осознала, что оркестр баянов и аккордеонов тембрально идеально для него подходит. Мне хотелось изобразить внутренний мир этого робота, представив оркестр как некий огромный механизм: неисправный, искрящий, издающий скрежет, но при этом живой и дышащий. Для этого я использовала набор шумовых приёмов, кластеры, а также ввела в состав соло цуг-флейты.
У меня уже есть небольшой опыт работы с народными инструментами, и я очень люблю эти тембры, да и вообще фолк-специфику. Но в данной работе у меня не было намерений использовать её как точку отсчёта, так как был конкретный образ.
Я получила огромное удовольствие от работы как в процессе репетиций на «Читках», так и на концерте! Исполнение было великолепным, и я под большим впечатлением от уровня профессионализма и артистической подачи музыкантов оркестра баянов и аккордеонов и их дирижёра и руководителя Венедикта Пеунова. Спасибо им огромное!
У меня уже есть небольшой опыт работы с народными инструментами, и я очень люблю эти тембры, да и вообще фолк-специфику. Но в данной работе у меня не было намерений использовать её как точку отсчёта, так как был конкретный образ.
Я получила огромное удовольствие от работы как в процессе репетиций на «Читках», так и на концерте! Исполнение было великолепным, и я под большим впечатлением от уровня профессионализма и артистической подачи музыкантов оркестра баянов и аккордеонов и их дирижёра и руководителя Венедикта Пеунова. Спасибо им огромное!
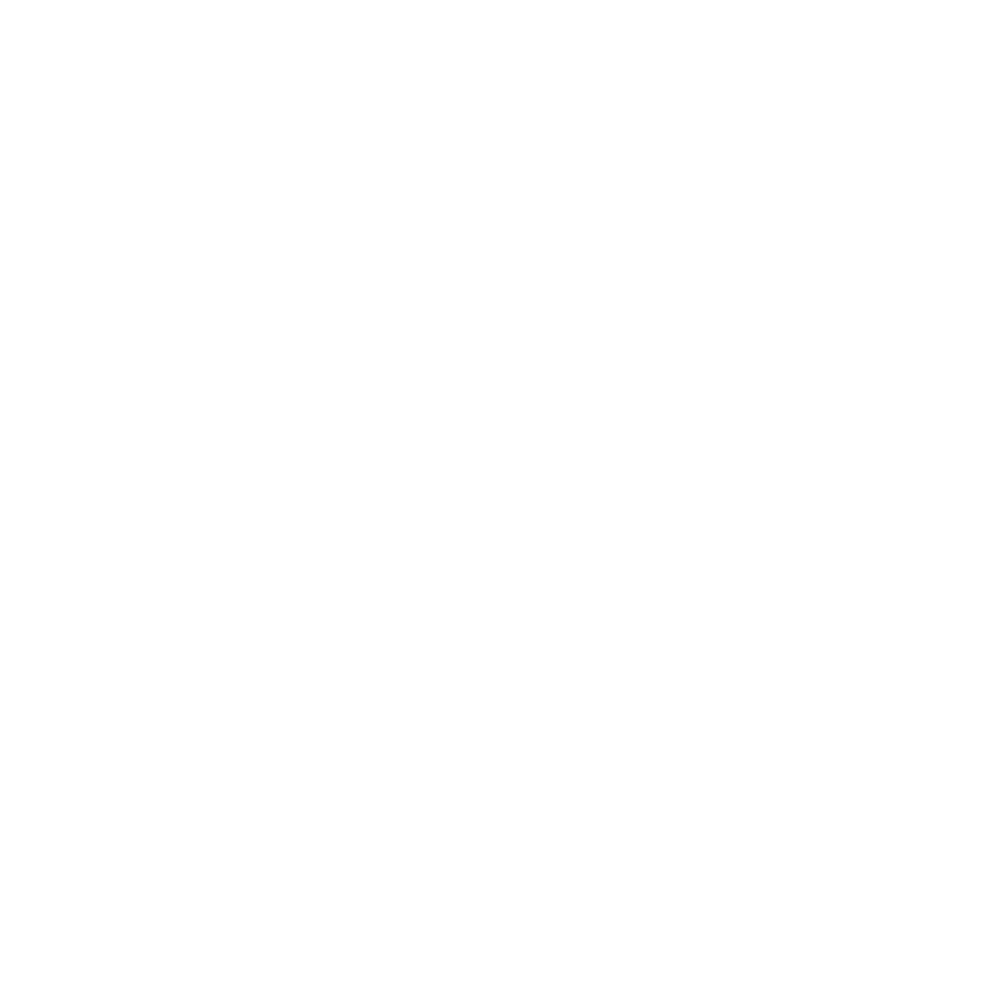
Дмитрий Мургин о сочинении «Стеклянный танец» для домры:
До «Читок» у меня не было опыта работы с предложенным инструментарием. Но традиционные русские инструменты уже привлекали меня: к тому времени был написан цикл «Поперечный обертон» для поперечной флейты и калюки — древнерусской обертоновой флейты.
Мой опыт работы с домрой начался с того, что я одолжил инструмент у знакомой домристки, приобрёл в музыкальном магазине стеклянный гитарный слайд (ещё до сочинительства я решил, что как гитарист, хочу попробовать привнести в мир домры что-то из мира гитары) — и засел дома на несколько дней, погрузившись в стеклянный мир звуков, возникших, когда я надел слайд на указательный палец правой руки (обычно его надевают на левую).
В сущности, мне оставалось собрать все найденные приёмы и тембры в одном звуковом пространстве. По крайней мере, так я думал...
Созвонившись с моим куратором Анной Поспеловой, мы пришли к выводу, что есть смысл «дотанцевать» уже станцованный, как я думал, танец. Мы нашли способы сделать сочинение более цельным и интересным, увеличив при этом его длительность. В процессе доработки появился приём пения в голосник ноты «ми» для достижения резонанса первой струны и необычного эффекта. Этот приём скрепил все «звенья» танца: мелодические, танцевальные и ритмические.
Пьеса «Стеклянный танец» вся состоит из расширенных техник, но подобных приёмов звукоизвлечения на домре до меня ещё никто не использовал. Поэтому вопрос нотации стоял особенно остро: партитура должна была быть максимально понятной и содержать подробную инструкцию в начале. Анна очень помогла мне в качественном оформлении партитуры, которое заняло даже больше времени, чем доработка сочинения.
Премьеру пьесы исполняла талантливая домристка Кристина Фиш. Перед ней стояла сложнейшая задача: забыть о богатом опыте классического музицирования на домре и взглянуть на инструмент под другим углом. Вероятно, те исполнительские трудности, которые превозмогала Кристина, даже превосходят технические сложности, знакомые многим инструменталистам (быстрые пассажи, флажолеты, динамические градации и т.д.), ведь ей пришлось не оттачивать уже приобретённые навыки, а осваивать целый набор новых приёмов с нуля… Низкий поклон и огромная благодарность Кристине от меня за проделанную работу!
И большое спасибо всем организаторам и участникам «Читок»! Могу с уверенностью сказать, что это был значимый, поворотный момент моей композиторской деятельности: после «Читок» мне посчастливилось стать стипендиатом Академии молодых композиторов в Чайковском и получить новые заказы. Весной 2026 года премьеры моих сочинений прозвучат в исполнении петербургского Ансамбля Независимых Музыкантов и квартета русских народных инструментов Свердловской филармонии.
Мой опыт работы с домрой начался с того, что я одолжил инструмент у знакомой домристки, приобрёл в музыкальном магазине стеклянный гитарный слайд (ещё до сочинительства я решил, что как гитарист, хочу попробовать привнести в мир домры что-то из мира гитары) — и засел дома на несколько дней, погрузившись в стеклянный мир звуков, возникших, когда я надел слайд на указательный палец правой руки (обычно его надевают на левую).
В сущности, мне оставалось собрать все найденные приёмы и тембры в одном звуковом пространстве. По крайней мере, так я думал...
Созвонившись с моим куратором Анной Поспеловой, мы пришли к выводу, что есть смысл «дотанцевать» уже станцованный, как я думал, танец. Мы нашли способы сделать сочинение более цельным и интересным, увеличив при этом его длительность. В процессе доработки появился приём пения в голосник ноты «ми» для достижения резонанса первой струны и необычного эффекта. Этот приём скрепил все «звенья» танца: мелодические, танцевальные и ритмические.
Пьеса «Стеклянный танец» вся состоит из расширенных техник, но подобных приёмов звукоизвлечения на домре до меня ещё никто не использовал. Поэтому вопрос нотации стоял особенно остро: партитура должна была быть максимально понятной и содержать подробную инструкцию в начале. Анна очень помогла мне в качественном оформлении партитуры, которое заняло даже больше времени, чем доработка сочинения.
Премьеру пьесы исполняла талантливая домристка Кристина Фиш. Перед ней стояла сложнейшая задача: забыть о богатом опыте классического музицирования на домре и взглянуть на инструмент под другим углом. Вероятно, те исполнительские трудности, которые превозмогала Кристина, даже превосходят технические сложности, знакомые многим инструменталистам (быстрые пассажи, флажолеты, динамические градации и т.д.), ведь ей пришлось не оттачивать уже приобретённые навыки, а осваивать целый набор новых приёмов с нуля… Низкий поклон и огромная благодарность Кристине от меня за проделанную работу!
И большое спасибо всем организаторам и участникам «Читок»! Могу с уверенностью сказать, что это был значимый, поворотный момент моей композиторской деятельности: после «Читок» мне посчастливилось стать стипендиатом Академии молодых композиторов в Чайковском и получить новые заказы. Весной 2026 года премьеры моих сочинений прозвучат в исполнении петербургского Ансамбля Независимых Музыкантов и квартета русских народных инструментов Свердловской филармонии.
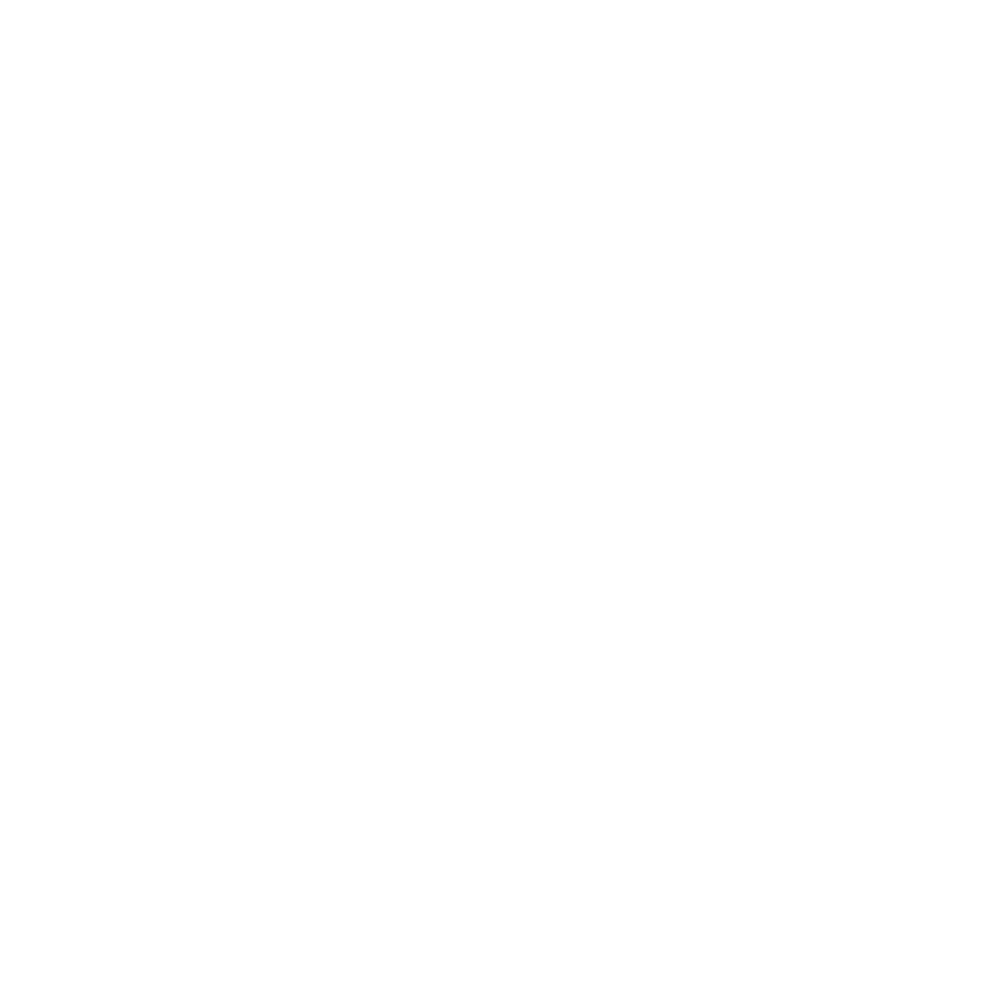
Дарья Мараева о сочинении «Пиршество Солнца» для оркестра баянов и аккордеонов:
«Пиршество Солнца» — моё первое сочинение для оркестра баянов и аккордеонов. Всего в моём каталоге — только три произведения для народных инструментов: Две микрохроматические пьесы для квартета домр, «Пиршество Солнца» и «Медитация» для балалайки примы и фортепиано. Почти все они написаны в 2025 году.
Мой основной инструмент — фортепиано, поэтому долгое время мысль о создании сочинений для «инструментов со странными тембрами» казалась мне абсурдной. Это продолжалось до тех пор, пока я не услышала музыку, где максимально раскрыты возможности народных инструментов. Во время работы над пьесой «Пиршество Солнца» мне хотелось в полной мере поддаться специфике тембра и конструкции инструмента. Так, мне пришлось «стать баяном», чтобы максимально прочувствовать инструмент.
Кажется, эта пьеса абсолютно дистанцирована от народного модуса. По моим ощущениям она ближе к органной музыке XX века, чем к народной.
«Пиршество Солнца» — пьеса для оркестра баянов и аккордеонов, написанная по мотивам одноимённой главы философского произведения «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. В музыке мне не хотелось буквально передавать смысл книги — я стремилась отразить в ней те ощущения и состояния, которые переживала при прочтении текста.
Если вспоминать в деталях процесс сочинения, то окажется, что первая тема предназначалась не для баянов, а для органа: по-началу мне казалось, что эти «вселенские» басы и аккорды приведут меня к органному сочинению, которое тоже будет носить отпечаток «Цитадели» Экзюпери. Но дальше идея никак не развивалась — просто «гудела» в голове где-то на заднем фоне.
В этот момент начался отбор на «Композиторские читки». Но предложенные организаторами инструменты и их ансамблевые сочетания меня смутили, так как раньше с ними я никогда не работала. Первое время у меня не было желания подать заявку. Но позже та самая идея начала подавать какие-то знаки, и изучив ещё раз состав предлагаемых ансамблей, я выбрала самый большой и сложный. А дальше идея сама начала меня вести за собой.
В моей пьесе также присутствуют расширенные техники. Наверное, именно благодаря им эта музыка принадлежит оркестру баянов и аккордеонов и переложение её для другого состава практически невозможно.
В будущем я бы снова поработала с народными инструментами: после «Пиршества Солнца» у меня появились другие идеи. Но в следующий раз начну уже сразу с оркестра баянов и аккордеонов.
Мой основной инструмент — фортепиано, поэтому долгое время мысль о создании сочинений для «инструментов со странными тембрами» казалась мне абсурдной. Это продолжалось до тех пор, пока я не услышала музыку, где максимально раскрыты возможности народных инструментов. Во время работы над пьесой «Пиршество Солнца» мне хотелось в полной мере поддаться специфике тембра и конструкции инструмента. Так, мне пришлось «стать баяном», чтобы максимально прочувствовать инструмент.
Кажется, эта пьеса абсолютно дистанцирована от народного модуса. По моим ощущениям она ближе к органной музыке XX века, чем к народной.
«Пиршество Солнца» — пьеса для оркестра баянов и аккордеонов, написанная по мотивам одноимённой главы философского произведения «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. В музыке мне не хотелось буквально передавать смысл книги — я стремилась отразить в ней те ощущения и состояния, которые переживала при прочтении текста.
Если вспоминать в деталях процесс сочинения, то окажется, что первая тема предназначалась не для баянов, а для органа: по-началу мне казалось, что эти «вселенские» басы и аккорды приведут меня к органному сочинению, которое тоже будет носить отпечаток «Цитадели» Экзюпери. Но дальше идея никак не развивалась — просто «гудела» в голове где-то на заднем фоне.
В этот момент начался отбор на «Композиторские читки». Но предложенные организаторами инструменты и их ансамблевые сочетания меня смутили, так как раньше с ними я никогда не работала. Первое время у меня не было желания подать заявку. Но позже та самая идея начала подавать какие-то знаки, и изучив ещё раз состав предлагаемых ансамблей, я выбрала самый большой и сложный. А дальше идея сама начала меня вести за собой.
В моей пьесе также присутствуют расширенные техники. Наверное, именно благодаря им эта музыка принадлежит оркестру баянов и аккордеонов и переложение её для другого состава практически невозможно.
В будущем я бы снова поработала с народными инструментами: после «Пиршества Солнца» у меня появились другие идеи. Но в следующий раз начну уже сразу с оркестра баянов и аккордеонов.