в студии
БИТВЫ «ИЗМОВ» И ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ
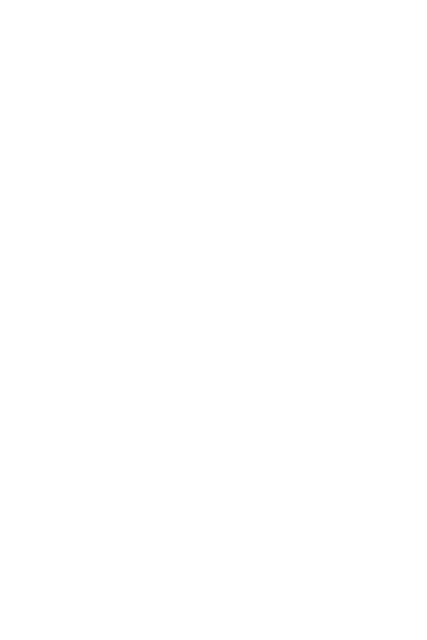
Сергей Хачатуров
Историк искусства, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, преподаватель Московской школы фотографии имени А.М. Родченко, школы-студии МХАТ, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. В сфере интересов – тема непарадных, малоизвестных культурных парадигм, достраивающих эстетический образ той или иной эпохи до более объемного, сложного, в то же время цельного представления. Лауреат премии Министерства культуры. Обозреватель российских и зарубежных СМИ по проблемам искусства. Куратор выставочных проектов в России, Латвии и Великобритании.
В Центре «Зотов» открылась выставка «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А–Я». Обозреватель Сергей Хачатуров был впечатлён, насколько битвенной и радикально полемичной (вплоть до взаимных оскорблений и разрывов отношений между издателями, художниками и меценатами) была жизнь самого главного журнала о неофициальном русском искусстве в эпоху позднего СССР. Интересным фоном и новыми перспективами взаимодействия оказались диалоги с «неофициальной» музыкой эпохи 1970-х–1980-х.
Материал о выставке в издании Art Focus Now доступен по ссылке.
Экспозиция в Центре «Зотов», которую тщательно и умно организовали кураторы Анна Замрий, Ирина Горлова, архитекторы Александр Бродский, Наташа Кузьмина, втягивает в эпицентр творческой полемики и циркуляцию идей, что определяли нерв главного журнала неофициального русского искусства «А–Я». Журнал выходил под редактурой Игоря Шелковского и Александра Сидорова с 1979 по 1986 год в Париже. В ротонду цеха бывшего хлебозавода встроен белый куб. Однако он не повторяет модернистские стерильные пространства западных галерей. Этот куб превращён в подобие гигантской журнальной этажерки с разделителями — корешками восьми вышедших журналов «А–Я». Каждый корешок — это своя тема, свой раздел. Начинается маршрут с «Комплекса Малевича». В фокусе этого раздела — первый номер журнала. В нём идентификация неофициального искусства в программной статье Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм» соседствует с желанием неофициальных художников разобраться с проклятым, одновременно недостижимым, фетишистским наследием первого русского авангарда. Завершается проход по периметру возвращением к той же цифре один, а не восемь, как логично было бы предположить. Почему? Восьмой номер оказывается тоже первым. Он посвящён единственному выпуску о неофициальной литературной жизни СССР.
Экспозиция подготовлена благодаря участию почти 40 музеев и частных собраний (от Русского музея, Третьяковки, Музея AZ до коллекций Алины Пинской, Игоря Маркина). Умелая аттрактивная режиссура буквально вбрасывает тебя в эпицентр многотрудной и далёкой от идиллии и гармонии биографии главного эмигрантского издания, в котором писалась первая глава истории неофициального российского искусства.
Куратор Ирина Горлова сразу обозначила идею выставки: рассказ не об отдельных художниках, героях «А–Я», а о проблеме сложного и полемичного общения «первого» и «второго» авангардов. Эта полемика красной нитью проходит сквозь все номера журнала, в рубриках «Наследие», в диалогах героев «А–Я» с историческим авангардом… И вот парадоксальный вывод. Стоя перед первым экспонатом выставки, супрематическим крестьянином Малевича, Ирина Горлова категорично произнесла: «Авангард неофициальные художники 1970-х за многое не любили». Для подтверждения этой мысли я открыл журнал «А–Я», пятый номер за 1983 год. В нём помещена статья Бориса Гройса «Московские художники о Малевиче». Вот цитата из неё: «Прекрасные формы, созданные авангардом, кажутся пресными и скучными. Они вызывают к себе ироническое отношение вследствие претензии на “последнее совершенство”, которое современные художники склонны считать недостижимым. В то же время их отчуждённость и “прекрасность” лишает их выразительности: люди не связаны с ними жизненно и эмоционально и поэтому не могут “выразить себя” через них».
Философские претензии Малевичу (после увиденного впервые вживую на выставке «Москва — Париж» 1981 года) предъявляют и Эрик Булатов с Олегом Васильевым. Эрик Булатов, например, выносит суждение о нежелании Малевича уважать пространство, схлопывании его в элементарной предметности. Бесчувственный к сложной эмпатической философии живописи супрематизм стал сокровищем в белых кубах музейных институций и коммерческих галерей. Он исчерпал свою радикальную созидательную революционную силу и оказался близок комфортному потребительскому дизайну.
Любопытно, что в 1983 году в своей статье Борис Гройс чётко назвал альтернативу тому «классическому авангарду» сегодня. Это трансавангард. Термин «трансавангард» был введён за несколько лет до статьи Гройса, в 1979 году, итальянским критиком Акилле Бонито Оливой. Трансавангард ратует за новую чувственность, экспрессивность, радикальный волюнтаризм художественного высказывания, возвращение к традиционным техникам, цитатность, комбинаторику форм настоящего и прошлого.
Пожалуй, главная удача новой выставки в Центре «Зотов» в том, что её создатели показали иной взгляд на хрестоматию неофициального искусства 1970-х–1980-х: главным стал не концептуализм, а различные превращения идеи русского авангарда. В этом контексте очень важны те взаимодействия, которые почти не прочерчены в самом эмигрантском журнале: имею в виду взаимодействия с Новой музыкой означенной эпохи 1970-х–1980-х.
Одновременно с термином «трансавангард» появилось ещё одно понятие — «неоавангард». Трансавангард родился в Италии и наделён ярким огненным темпераментом. Франческо Клементе, Энцо Кукки, Миммо Паладино были близки новой версии экспрессионизма. В историческом авангарде им не хватало чувственности, сопереживания, эмпатии и речи от первого лица. Они ввели заново фигуративность и заключили союз с неоклассикой. За пять лет до трансавангарда, в 1974 году, вышла книга немецкого филолога и историка культуры Петера Бюргера «Теория авангарда». В ней он развивает идеи другого производного исторического авангарда, только с приставкой «нео-». Согласно Бюргеру и его адептам (Бенджамину Бухло), неоавангард как раз формально должен быть близок радикальным жестам, лабораторным опытам исторического метода. Однако в отличие от трансавангарда суть его куда более меланхоличная. С важными для исторического авангарда идеями всеобщности, оригинальности, преодоления автономии языка («искусство — в жизнь!») приходится распрощаться. В отличие от задорных экспрессивных итальянцев, немецкая версия куда более пессимистична. Неоавангард — это повторение жестикуляции революционеров от искусства при опустошенной сердцевине. Как только приёмы исторического авангарда начинают повторяться, они теряют жизнестроительную силу, приобретают качества автономии музейного экспоната. Неоавангард в версии Бюргера куда ближе усталому циничному постмодернизму с его репетитивностью и цитатностью, горизонталью смыслов.
Допустимо сказать, что неофициальное искусство СССР обретало себя в пространстве между двумя полюсами: «транс-» и «нео-». От воодушевления идеей мессианства к циничному пастишу — таков спектр эмоций. Думаю, что похожая амплитуда слышится и в музыкальном «нонконформизме» времени.
Пройдёмся по выставке… В согласии с полемичным диалогом как с предыдущим поколением модернистов, так и с членами собственного братства «А–Я» выстроено движение по анфиладе с восемью разделами. Инфанте, Булатов, Шаблавин, Чуйков против Малевича, Лисицкого, Родченко… Невероятно интересные взаимодействия! Достаточно вспомнить, например, как Эрик Булатов процарапал точку в середине «Черного квадрата», вызволив, таким образом, из плена свет пространства, что блокировано в мире тотальной предметности Казимира Севериновича Малевича. Эдуард Штейнберг превратил «бездушную» абстракцию супрематистов в интимные переживания времени и пространства малой родины, реально существовавшей деревни, где был лично знаком с крестьянами, затем ушедшими в мир иной. Почему-то сразу вспоминаешь атональные опусы Андрея Волконского, Эдисона Денисова, где энергия жизнетворчества, созидания новой вселенной звуков сочетается с пронзительной лирической, интрасубъективной интонацией. Она была невозможна для конструктивистов первого авангарда, но определяет пространство творчества трансавангардных мастеров.
В разделе «Филоновская мифологема» наблюдаем ещё один интересный вектор. Аналитическая лаборатория Павла Николаевича Филонова («Мастера аналитического искусства») воспринимается не аутсайдерской школой странных шизофреников. Всё дальше отходят они от маргинального статуса в сравнении с Малевичем. Сегодня МАИ Филонова понимается действенной силой, имеющей огромный резонанс в фигуративном искусстве 1960-х–1980-х. Учитель самого идеолога «А–Я» Игоря Шелковского Фёдор Семёнов-Амурский — тому подтверждение. Семёнов-Амурский в союзники нового формотворчества привлекал архаику, древние маски, восточное искусство, Египет и Византию. Подобно Филонову, аналитическим путём, из руин, фрагментов он восстанавливал корпускулярно-молекулярную ткань жизни, параллельно действовал как энциклопедист и связной-медиум.
Густые чащи геометрических форм в объектах Игоря Шелковского также реинтерпретируют органику и одновременно техногенную механику миров Филонова, увиденных в диалоге / полемике с Семёновым-Амурским. Филонов, безусловно, свой внутри опытов трансавангарда: мощнейшие, навзрыд, конвульсии форм экспрессионизма Филонова становятся провозвестниками искусства сегодняшнего дня: объектно-ориентированного искусства, net-art, искусства нейросети. Об этом переходе аналитического метода Филонова к contemporary сигналят, например, показанные на выставке объекты одного из героев журнала, Владимира Янкилевского. Конечно, великими собеседниками и школе Филонова, и Семёнову-Амурскому с Шелковским оказываются продолжатели метафизической традиции в живописи: Владимир Вейсберг, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский. Рискую предположить, что в музыке эту метафизическую идею универсально воплощают София Губайдулина, Николай Каретников.
На выставке в Центре «Зотов» я отметил разновекторные параллели в разделах, где неофициальное искусство круга «А–Я» сопоставляется с неонаивом Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой. «Красная дверь» Михаила Рогинского показана напротив брутальной живописи Михаила Ларионова. Такая композиция уподобляется триумфальной арке, символизирует победное возвращение предметности, «вещности» в мире затертых слов. В музыке похожий необрутализм с возвращением мелодии можно почувствовать в опусах школы Прокофьева и Шостаковича, у Мечислава Вайнберга, Бориса Чайковского…
Запомнились диалоги оптических свето-цветовых и звуковых опытов гуру первого авангарда, композитора оперы «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина с опусами классиков неофициального искусства, близких к концептуалистам, Эдуарда Гороховского и Ивана Чуйкова. Причём, полемический задор очевиден. Иван Чуйков, в отличие от Матюшина, в обращении с цветом во главу угла ставит случайность. «Просто дал номера банкам с красками и вытягивал жребий из шапки, — пишет Чуйков о своей работе “Окно XVIII” (1980 года), сделанной как рефлексия на тему матюшинской картины “Движение в пространстве” (1917–1919 гг.). — Матюшин же специально занимался теорией цвета, и подбор красок был для него очень важен. Мне же казалось, что гениальность его работы вовсе не в цвете и цвета можно изменить случайным образом без ущерба для работы…».
Завершается экспозиция «речетворческими» автографами футуристов и Велимира Хлебникова, размещёнными рядом с концептуальной поэзией Льва Рубинштейна, Дмитрия Александровича Пригова…
Думаю, такой многослойный пастиш, осенённый чувством светлой меланхолии в общении с первым модернизмом мировой культуры, лучше всего соответствует музыке Альфреда Шнитке, суммирующего много тем и трансавангарда, и неоавангарда, и постмодернизма, и концептуализма. Его опусы заряжены невероятным напряжением внутренней борьбы разных систем речи и смыслов. Они то поддерживают, то рвут друг друга, превращаясь в тревожные зияющие пустоты. Музыка Альфреда Шнитке, наверное, — конгениальный самому архиву журнала «А–Я» памятник эпохи неофициального советского и постсоветского искусства.
Экспозиция подготовлена благодаря участию почти 40 музеев и частных собраний (от Русского музея, Третьяковки, Музея AZ до коллекций Алины Пинской, Игоря Маркина). Умелая аттрактивная режиссура буквально вбрасывает тебя в эпицентр многотрудной и далёкой от идиллии и гармонии биографии главного эмигрантского издания, в котором писалась первая глава истории неофициального российского искусства.
Куратор Ирина Горлова сразу обозначила идею выставки: рассказ не об отдельных художниках, героях «А–Я», а о проблеме сложного и полемичного общения «первого» и «второго» авангардов. Эта полемика красной нитью проходит сквозь все номера журнала, в рубриках «Наследие», в диалогах героев «А–Я» с историческим авангардом… И вот парадоксальный вывод. Стоя перед первым экспонатом выставки, супрематическим крестьянином Малевича, Ирина Горлова категорично произнесла: «Авангард неофициальные художники 1970-х за многое не любили». Для подтверждения этой мысли я открыл журнал «А–Я», пятый номер за 1983 год. В нём помещена статья Бориса Гройса «Московские художники о Малевиче». Вот цитата из неё: «Прекрасные формы, созданные авангардом, кажутся пресными и скучными. Они вызывают к себе ироническое отношение вследствие претензии на “последнее совершенство”, которое современные художники склонны считать недостижимым. В то же время их отчуждённость и “прекрасность” лишает их выразительности: люди не связаны с ними жизненно и эмоционально и поэтому не могут “выразить себя” через них».
Философские претензии Малевичу (после увиденного впервые вживую на выставке «Москва — Париж» 1981 года) предъявляют и Эрик Булатов с Олегом Васильевым. Эрик Булатов, например, выносит суждение о нежелании Малевича уважать пространство, схлопывании его в элементарной предметности. Бесчувственный к сложной эмпатической философии живописи супрематизм стал сокровищем в белых кубах музейных институций и коммерческих галерей. Он исчерпал свою радикальную созидательную революционную силу и оказался близок комфортному потребительскому дизайну.
Любопытно, что в 1983 году в своей статье Борис Гройс чётко назвал альтернативу тому «классическому авангарду» сегодня. Это трансавангард. Термин «трансавангард» был введён за несколько лет до статьи Гройса, в 1979 году, итальянским критиком Акилле Бонито Оливой. Трансавангард ратует за новую чувственность, экспрессивность, радикальный волюнтаризм художественного высказывания, возвращение к традиционным техникам, цитатность, комбинаторику форм настоящего и прошлого.
Пожалуй, главная удача новой выставки в Центре «Зотов» в том, что её создатели показали иной взгляд на хрестоматию неофициального искусства 1970-х–1980-х: главным стал не концептуализм, а различные превращения идеи русского авангарда. В этом контексте очень важны те взаимодействия, которые почти не прочерчены в самом эмигрантском журнале: имею в виду взаимодействия с Новой музыкой означенной эпохи 1970-х–1980-х.
Одновременно с термином «трансавангард» появилось ещё одно понятие — «неоавангард». Трансавангард родился в Италии и наделён ярким огненным темпераментом. Франческо Клементе, Энцо Кукки, Миммо Паладино были близки новой версии экспрессионизма. В историческом авангарде им не хватало чувственности, сопереживания, эмпатии и речи от первого лица. Они ввели заново фигуративность и заключили союз с неоклассикой. За пять лет до трансавангарда, в 1974 году, вышла книга немецкого филолога и историка культуры Петера Бюргера «Теория авангарда». В ней он развивает идеи другого производного исторического авангарда, только с приставкой «нео-». Согласно Бюргеру и его адептам (Бенджамину Бухло), неоавангард как раз формально должен быть близок радикальным жестам, лабораторным опытам исторического метода. Однако в отличие от трансавангарда суть его куда более меланхоличная. С важными для исторического авангарда идеями всеобщности, оригинальности, преодоления автономии языка («искусство — в жизнь!») приходится распрощаться. В отличие от задорных экспрессивных итальянцев, немецкая версия куда более пессимистична. Неоавангард — это повторение жестикуляции революционеров от искусства при опустошенной сердцевине. Как только приёмы исторического авангарда начинают повторяться, они теряют жизнестроительную силу, приобретают качества автономии музейного экспоната. Неоавангард в версии Бюргера куда ближе усталому циничному постмодернизму с его репетитивностью и цитатностью, горизонталью смыслов.
Допустимо сказать, что неофициальное искусство СССР обретало себя в пространстве между двумя полюсами: «транс-» и «нео-». От воодушевления идеей мессианства к циничному пастишу — таков спектр эмоций. Думаю, что похожая амплитуда слышится и в музыкальном «нонконформизме» времени.
Пройдёмся по выставке… В согласии с полемичным диалогом как с предыдущим поколением модернистов, так и с членами собственного братства «А–Я» выстроено движение по анфиладе с восемью разделами. Инфанте, Булатов, Шаблавин, Чуйков против Малевича, Лисицкого, Родченко… Невероятно интересные взаимодействия! Достаточно вспомнить, например, как Эрик Булатов процарапал точку в середине «Черного квадрата», вызволив, таким образом, из плена свет пространства, что блокировано в мире тотальной предметности Казимира Севериновича Малевича. Эдуард Штейнберг превратил «бездушную» абстракцию супрематистов в интимные переживания времени и пространства малой родины, реально существовавшей деревни, где был лично знаком с крестьянами, затем ушедшими в мир иной. Почему-то сразу вспоминаешь атональные опусы Андрея Волконского, Эдисона Денисова, где энергия жизнетворчества, созидания новой вселенной звуков сочетается с пронзительной лирической, интрасубъективной интонацией. Она была невозможна для конструктивистов первого авангарда, но определяет пространство творчества трансавангардных мастеров.
В разделе «Филоновская мифологема» наблюдаем ещё один интересный вектор. Аналитическая лаборатория Павла Николаевича Филонова («Мастера аналитического искусства») воспринимается не аутсайдерской школой странных шизофреников. Всё дальше отходят они от маргинального статуса в сравнении с Малевичем. Сегодня МАИ Филонова понимается действенной силой, имеющей огромный резонанс в фигуративном искусстве 1960-х–1980-х. Учитель самого идеолога «А–Я» Игоря Шелковского Фёдор Семёнов-Амурский — тому подтверждение. Семёнов-Амурский в союзники нового формотворчества привлекал архаику, древние маски, восточное искусство, Египет и Византию. Подобно Филонову, аналитическим путём, из руин, фрагментов он восстанавливал корпускулярно-молекулярную ткань жизни, параллельно действовал как энциклопедист и связной-медиум.
Густые чащи геометрических форм в объектах Игоря Шелковского также реинтерпретируют органику и одновременно техногенную механику миров Филонова, увиденных в диалоге / полемике с Семёновым-Амурским. Филонов, безусловно, свой внутри опытов трансавангарда: мощнейшие, навзрыд, конвульсии форм экспрессионизма Филонова становятся провозвестниками искусства сегодняшнего дня: объектно-ориентированного искусства, net-art, искусства нейросети. Об этом переходе аналитического метода Филонова к contemporary сигналят, например, показанные на выставке объекты одного из героев журнала, Владимира Янкилевского. Конечно, великими собеседниками и школе Филонова, и Семёнову-Амурскому с Шелковским оказываются продолжатели метафизической традиции в живописи: Владимир Вейсберг, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский. Рискую предположить, что в музыке эту метафизическую идею универсально воплощают София Губайдулина, Николай Каретников.
На выставке в Центре «Зотов» я отметил разновекторные параллели в разделах, где неофициальное искусство круга «А–Я» сопоставляется с неонаивом Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой. «Красная дверь» Михаила Рогинского показана напротив брутальной живописи Михаила Ларионова. Такая композиция уподобляется триумфальной арке, символизирует победное возвращение предметности, «вещности» в мире затертых слов. В музыке похожий необрутализм с возвращением мелодии можно почувствовать в опусах школы Прокофьева и Шостаковича, у Мечислава Вайнберга, Бориса Чайковского…
Запомнились диалоги оптических свето-цветовых и звуковых опытов гуру первого авангарда, композитора оперы «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина с опусами классиков неофициального искусства, близких к концептуалистам, Эдуарда Гороховского и Ивана Чуйкова. Причём, полемический задор очевиден. Иван Чуйков, в отличие от Матюшина, в обращении с цветом во главу угла ставит случайность. «Просто дал номера банкам с красками и вытягивал жребий из шапки, — пишет Чуйков о своей работе “Окно XVIII” (1980 года), сделанной как рефлексия на тему матюшинской картины “Движение в пространстве” (1917–1919 гг.). — Матюшин же специально занимался теорией цвета, и подбор красок был для него очень важен. Мне же казалось, что гениальность его работы вовсе не в цвете и цвета можно изменить случайным образом без ущерба для работы…».
Завершается экспозиция «речетворческими» автографами футуристов и Велимира Хлебникова, размещёнными рядом с концептуальной поэзией Льва Рубинштейна, Дмитрия Александровича Пригова…
Думаю, такой многослойный пастиш, осенённый чувством светлой меланхолии в общении с первым модернизмом мировой культуры, лучше всего соответствует музыке Альфреда Шнитке, суммирующего много тем и трансавангарда, и неоавангарда, и постмодернизма, и концептуализма. Его опусы заряжены невероятным напряжением внутренней борьбы разных систем речи и смыслов. Они то поддерживают, то рвут друг друга, превращаясь в тревожные зияющие пустоты. Музыка Альфреда Шнитке, наверное, — конгениальный самому архиву журнала «А–Я» памятник эпохи неофициального советского и постсоветского искусства.
Портрет в студию: Арво Пярт
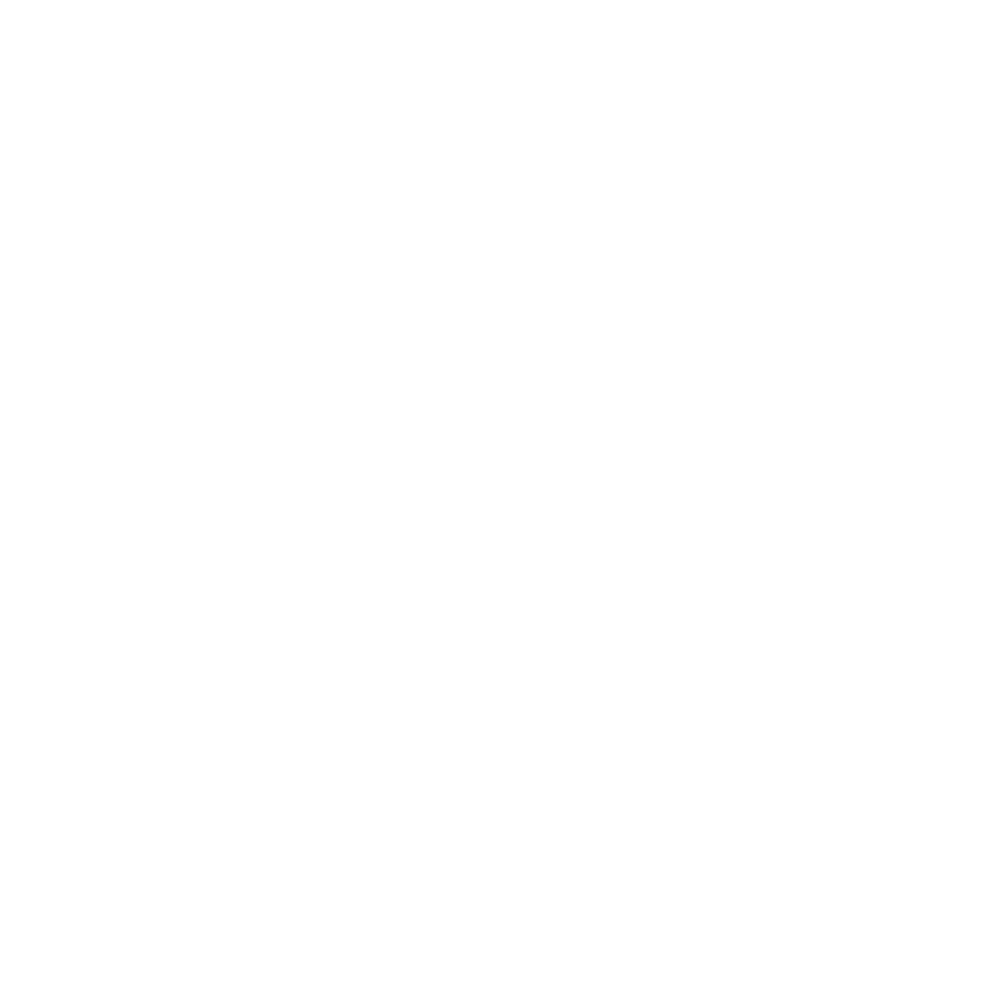
Анастасия Ким
Музыковед, преподаватель, редактор сайта Stravinsky.online. В 2021 году окончила МГК им. П.И. Чайковского (научный руководитель Власова Е.С.) и там же в 2024 — аспирантуру (научный руководитель Высоцкая М.С.). В настоящий момент является научным сотрудником Центра современной музыки Московской консерватории. Область научных интересов — творчество композиторов советского авангарда 1920-1930 гг.
Студия новой музыки и Научно-творческий центр современной музыки Московской консерватории начали публиковать новый цикл видео-подкастов «Портрет студию». В каждом выпуске исследователи-музыковеды создают портреты композиторов-юбиляров сезона 2025–2026 — ведущих авторов современной академической музыки.
Первый выпуск подкаста посвящён Арво Пярту — музыканту, который всю жизнь оставался нонконформистом в первую очередь по отношению к самому себе, пройдя через неоклассицизм, авангардные техники, новую простоту и глубокое изучение наследия прошлых эпох.
Автор портрета — музыковед, доцент Московской консерватории, шеф-редактор альманаха «Время слышать / Слышать время» Фёдор Софронов.
Первый выпуск подкаста посвящён Арво Пярту — музыканту, который всю жизнь оставался нонконформистом в первую очередь по отношению к самому себе, пройдя через неоклассицизм, авангардные техники, новую простоту и глубокое изучение наследия прошлых эпох.
Автор портрета — музыковед, доцент Московской консерватории, шеф-редактор альманаха «Время слышать / Слышать время» Фёдор Софронов.
Расшифровка подкаста:
В этом году мы отмечаем 90 лет со дня рождения выдающегося композитора современности Арво Пярта.
Пярт всегда был нонконформистом по отношению даже не ко внешним обстоятельствам, которые тоже серьёзно влияли на его жизнь, но в первую очередь по отношению к самому себе. Путь композитора начался ещё в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Тогда Пярт писал музыку неоклассицистского толка, что не удивительно, ведь его учителем был Хейно Эллер — один из столпов эстонского неоклассицизма.
Неоклассицизмом тогда увлекались многие. Если мы возьмём творчество Шнитке, Щедрина, Денисова, Лютославского, то увидим стойкие неоклассические влияния. Это был язык эпохи Восточной Европы, через который Европа Западная прошла в основном в 1930 – 1940-е годы. Но в нашем регионе мода началась уже после того, как монополия социалистического реализма в середине 1950-х годов стала ослабевать.
Затем Пярт отходит от неоклассицизма в сторону настоящих авангардных техник. Он пишет масштабные симфонические полотна, среди которых «Полифоническая» симфония, во многом определившая его дальнейший подход к композиционной технике.
Пярт — поистине выдающийся полифонист. Он работает с контрапунктом на основе блестящего знания музыкальных техник прошлого, которым всегда остаётся предан. Но если в 1960-е годы в «Полифонической» симфонии он это делал на основе серийной или конкретно додекафонной техники, то в 1970-е годы в творчестве Пярта наступает ещё один период, который парадоксальным образом возрождает не только техники прошлого, но и музыкальный материал, с которым имели дело композиторы на заре существования композиторской профессии как таковой.
На рубеже 1960-х – 1970-х годов Пярт не пишет музыку вообще. А по возвращении к композиции начинает использовать элементарные средства для воплощения своих идей. Музыкальная ткань его сочинений сильно упрощается: её наполняют трезвучия и отдельные интервалы, чаще консонирующие, чем диссонирующие.
Произведения Пярта 1970-х – 1980-х годов представляют собой до предела истончившуюся музыкальную ткань, которая может вытягиваться в «линию» с небольшими утолщениями, как это было в эпоху органума в XII–XIII веков. При этом звучит эта музыка не так, как если бы она была написана 700 лет назад. Это не стилизация — это действительно желание композитора уместить в тончайшую ниточку музыкального материала, из которой ткётся очень тонкая музыкальная ткань, современную композиторскую мысль.
В начале 1980-х годов Пярт уезжает на Запад с творческим багажом, который состоял из музыки неоклассической, серийно-авангардной и композиций, написанных в новом стиле, который Пярт называл tintinnabuli, то есть «колокольчики» в переводе с латыни. Он мог остаться одним из многих композиторов «новой простоты», которые жили и работали в 1980-е и 1990-е годы на Западе и в России, и не был бы так широко известен, если бы не один случай. Руководитель фирмы по производству грампластинок ECM (Edition of Contemporary Music), которого звали Манфред Айхер, как-то раз в автомобиле услышал музыку Арво Пярта и даже специально съехал на обочину, чтобы дослушать композицию, которую передавали по радио. Вскоре он связался с автором и издал его альбом на своём лейбле довольно большим тиражом. Альбом разошёлся так, что пришлось его допечатывать ещё. С колоссального успеха Пярта на фирме ECM, которая до этого преимущественно выпускала джазовые записи таких музыкантов, как Ян Гарбарек и Кит Джарретт, началось шествие восточно-европейских композиторов, композиторов «новой простоты» на широкий музыкальный рынок. Вслед за Пяртом последовали такие музыканты, как Гия Канчели, Хендрик Миколай Гурецкий и многие другие, которые сформировали музыкальную моду 1990-х годов.
Но обретя славу, Пярт потерял интерес к стилю tintinnabuli и занялся сочинением сугубо духовной хоровой музыки на литургические тексты. Ещё во время жизни в СССР он принял Православие, но это не мешает ему по сей день сочинять духовную музыку на латинские тексты, взятые из обихода католической церкви. Не только хоровые и вокальные произведения Пярта, написанные на духовный текст, но и инструментальные могут нести сакральный смысл. Таково, например, сочинение Spiegel im Spiegel («Зеркало в зеркале»), в основе которого лежит троичный код. Материал этой пьесы элементарен: в ней используются трезвучия (то есть аккорды из трёх звуков), трёхдольный размер, триоли. И при этом соблюдается зеркальность в построении мелодии, как будто два мелодических контура идут друг навстречу другу, смыкаясь в некий крест, опять же, — сакральную фигуру подобную тому, что мы видим на схематическом изображении призмы. Существует очень много редакций этого сочинения, хотя изначально оно было написано для скрипки и фортепиано.
Услышать пьесу Spiegel im Spiegel вы сможете на концерте 10 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории. Начало — в 19:00.
В этом году мы отмечаем 90 лет со дня рождения выдающегося композитора современности Арво Пярта.
Пярт всегда был нонконформистом по отношению даже не ко внешним обстоятельствам, которые тоже серьёзно влияли на его жизнь, но в первую очередь по отношению к самому себе. Путь композитора начался ещё в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Тогда Пярт писал музыку неоклассицистского толка, что не удивительно, ведь его учителем был Хейно Эллер — один из столпов эстонского неоклассицизма.
Неоклассицизмом тогда увлекались многие. Если мы возьмём творчество Шнитке, Щедрина, Денисова, Лютославского, то увидим стойкие неоклассические влияния. Это был язык эпохи Восточной Европы, через который Европа Западная прошла в основном в 1930 – 1940-е годы. Но в нашем регионе мода началась уже после того, как монополия социалистического реализма в середине 1950-х годов стала ослабевать.
Затем Пярт отходит от неоклассицизма в сторону настоящих авангардных техник. Он пишет масштабные симфонические полотна, среди которых «Полифоническая» симфония, во многом определившая его дальнейший подход к композиционной технике.
Пярт — поистине выдающийся полифонист. Он работает с контрапунктом на основе блестящего знания музыкальных техник прошлого, которым всегда остаётся предан. Но если в 1960-е годы в «Полифонической» симфонии он это делал на основе серийной или конкретно додекафонной техники, то в 1970-е годы в творчестве Пярта наступает ещё один период, который парадоксальным образом возрождает не только техники прошлого, но и музыкальный материал, с которым имели дело композиторы на заре существования композиторской профессии как таковой.
На рубеже 1960-х – 1970-х годов Пярт не пишет музыку вообще. А по возвращении к композиции начинает использовать элементарные средства для воплощения своих идей. Музыкальная ткань его сочинений сильно упрощается: её наполняют трезвучия и отдельные интервалы, чаще консонирующие, чем диссонирующие.
Произведения Пярта 1970-х – 1980-х годов представляют собой до предела истончившуюся музыкальную ткань, которая может вытягиваться в «линию» с небольшими утолщениями, как это было в эпоху органума в XII–XIII веков. При этом звучит эта музыка не так, как если бы она была написана 700 лет назад. Это не стилизация — это действительно желание композитора уместить в тончайшую ниточку музыкального материала, из которой ткётся очень тонкая музыкальная ткань, современную композиторскую мысль.
В начале 1980-х годов Пярт уезжает на Запад с творческим багажом, который состоял из музыки неоклассической, серийно-авангардной и композиций, написанных в новом стиле, который Пярт называл tintinnabuli, то есть «колокольчики» в переводе с латыни. Он мог остаться одним из многих композиторов «новой простоты», которые жили и работали в 1980-е и 1990-е годы на Западе и в России, и не был бы так широко известен, если бы не один случай. Руководитель фирмы по производству грампластинок ECM (Edition of Contemporary Music), которого звали Манфред Айхер, как-то раз в автомобиле услышал музыку Арво Пярта и даже специально съехал на обочину, чтобы дослушать композицию, которую передавали по радио. Вскоре он связался с автором и издал его альбом на своём лейбле довольно большим тиражом. Альбом разошёлся так, что пришлось его допечатывать ещё. С колоссального успеха Пярта на фирме ECM, которая до этого преимущественно выпускала джазовые записи таких музыкантов, как Ян Гарбарек и Кит Джарретт, началось шествие восточно-европейских композиторов, композиторов «новой простоты» на широкий музыкальный рынок. Вслед за Пяртом последовали такие музыканты, как Гия Канчели, Хендрик Миколай Гурецкий и многие другие, которые сформировали музыкальную моду 1990-х годов.
Но обретя славу, Пярт потерял интерес к стилю tintinnabuli и занялся сочинением сугубо духовной хоровой музыки на литургические тексты. Ещё во время жизни в СССР он принял Православие, но это не мешает ему по сей день сочинять духовную музыку на латинские тексты, взятые из обихода католической церкви. Не только хоровые и вокальные произведения Пярта, написанные на духовный текст, но и инструментальные могут нести сакральный смысл. Таково, например, сочинение Spiegel im Spiegel («Зеркало в зеркале»), в основе которого лежит троичный код. Материал этой пьесы элементарен: в ней используются трезвучия (то есть аккорды из трёх звуков), трёхдольный размер, триоли. И при этом соблюдается зеркальность в построении мелодии, как будто два мелодических контура идут друг навстречу другу, смыкаясь в некий крест, опять же, — сакральную фигуру подобную тому, что мы видим на схематическом изображении призмы. Существует очень много редакций этого сочинения, хотя изначально оно было написано для скрипки и фортепиано.
Услышать пьесу Spiegel im Spiegel вы сможете на концерте 10 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории. Начало — в 19:00.