Новая музыка в России и за рубежом
Дайджест
время слушать
интервью
Рецензия
кафка с перигелием
читать
читать
читать
читать
читать
читать
неполный и неокончательный дайджест зарубежных музыкальных фестивалей
оперные фантомы, тревожные глитчи и бесплотный хор: как звучит новая музыка Тбилиси
«посвятив себя главному и наивысшему»
Беседа Фархада Бахтияри с Туфаном Имамутдиновым, Нурбеком и Алёной Батуллой о современном искусстве Татарстана, творческом объединении «Әлиф» и одноименном спектакле
Большой огонь в маленьком швейцарском городе
кафка с перигелием
Главные события артхаусной музыки в России за последний сезон
владимир
жалнин
жалнин
Музыковед и музыкальный журналист. Ведущий специалист организационно-творческого отдела Союза композиторов России. Менеджер спецпроектов журнала «Музыкальная академия»
что современно?
Сочетание слов «современная музыка» обескураживает. Треки ижевского диджея или оркестровая пьеса Алексея Сысоева, генератор песен Suno, ритуальная музыка коренных саами или новый альбом Lady Gaga — все это область современного музыкального. Называть современную академическую / «серьезную» / новую / актуальную классику / contemporary music не иначе как артхаусная музыка — мысль классная и, кажется, продуктивная. Нейминг предложил композитор и музыкальный критик Антон Светличный на одной из своих лекций. Артхаус противостоит мейнстриму и, по мысли Светличного, эксплуатирует редкие опции речи и режимы производства, потребления и восприятия музыки. Термин еще не прижился, но мы попробуем его использовать.
Что произошло в России с артхаусной музыкой за минувший сезон? Она стала заметнее. В эпоху, когда контента слишком много, а внимание — главная валюта, новая музыка научилась встраиваться в повседневность, культурную повестку, системы слушательских интересов. События из мира артхаусной музыки нередко связаны с деятельностью медийных фигур, например Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Количество просмотров трансляций прошлогоднего Дягилевского фестиваля (в том числе и российской премьеры Passion Паскаля Дюсапена) на платформе онлайн-кинотеатра Okko крайне высоки.
Видимость артхаусной музыке дали престижные премии: Московская Арт Премия, Премия Сергея Курёхина, а также Премия Московского Художественного театра — последняя, кстати, ежегодно отмечает современных российских композиторов младше 36 лет. В этом году главную награду получила Лидия-Мария Кошевая за триптих «Песни цветов», премьеру которого исполнили всего лишь полгода назад на фестивале «Пять вечеров». Один из бонусов Премии — возможность реализовать спецпроект на сцене МХТ им. А.П. Чехова, одной из главных театральных площадок столицы.
Что произошло в России с артхаусной музыкой за минувший сезон? Она стала заметнее. В эпоху, когда контента слишком много, а внимание — главная валюта, новая музыка научилась встраиваться в повседневность, культурную повестку, системы слушательских интересов. События из мира артхаусной музыки нередко связаны с деятельностью медийных фигур, например Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Количество просмотров трансляций прошлогоднего Дягилевского фестиваля (в том числе и российской премьеры Passion Паскаля Дюсапена) на платформе онлайн-кинотеатра Okko крайне высоки.
Видимость артхаусной музыке дали престижные премии: Московская Арт Премия, Премия Сергея Курёхина, а также Премия Московского Художественного театра — последняя, кстати, ежегодно отмечает современных российских композиторов младше 36 лет. В этом году главную награду получила Лидия-Мария Кошевая за триптих «Песни цветов», премьеру которого исполнили всего лишь полгода назад на фестивале «Пять вечеров». Один из бонусов Премии — возможность реализовать спецпроект на сцене МХТ им. А.П. Чехова, одной из главных театральных площадок столицы.
это норма
За год до пандемии я оказался в Парижской филармонии. Помню, меня поразил их буклет с планами на весь сезон — не красотой дизайна, а тем, как собраны концертные программы. Бетховен звучал в один вечер с музыкой Филиппа Леру или Брюно Мантовани, а Берлиоз — с Жераром Пессоном или «отцами» авангарда второй половины XX столетия. Сегодня такой принцип все смелее заявляет о себе и в русскоязычном контексте. Сравнивая афиши нового сезона 2024/2025 с прошлыми, видишь: соседство старого и современного больше не концептуальный жест. Это стало нормой.
Вот два показательных примера. Петербургская филармония — одна из самых традиционных концертных институций страны — запустила абонемент «Классика. Новое». В зале, где привыкли слушать Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, теперь звучат премьеры Настасьи Хрущёвой, Анатолия Королёва и Александра Радвиловича. А в Челябинске запустили масштабный проект «Бетховен. Переосмысление». Его идея — соединить великие симфонии классика с новой музыкой. Инициатором абонемента выступил молодой дирижер Алексей Рубин, недавно возглавивший Государственный симфонический оркестр Челябинской области. В рамках проекта прозвучало «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» Родиона Щедрина, в планах — новые сочинения Владимира Горлинского, Алексея Ретинского, Настасьи Хрущевой и челябинского композитора Алана Кузьмина.
Вот два показательных примера. Петербургская филармония — одна из самых традиционных концертных институций страны — запустила абонемент «Классика. Новое». В зале, где привыкли слушать Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, теперь звучат премьеры Настасьи Хрущёвой, Анатолия Королёва и Александра Радвиловича. А в Челябинске запустили масштабный проект «Бетховен. Переосмысление». Его идея — соединить великие симфонии классика с новой музыкой. Инициатором абонемента выступил молодой дирижер Алексей Рубин, недавно возглавивший Государственный симфонический оркестр Челябинской области. В рамках проекта прозвучало «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» Родиона Щедрина, в планах — новые сочинения Владимира Горлинского, Алексея Ретинского, Настасьи Хрущевой и челябинского композитора Алана Кузьмина.
тренды большие и маленькие
1.
1.
Если говорить о главном тренде прошедшего сезона, то это, несомненно, балеты с новой музыкой. Одной из первых, кто сделал это направление устойчивым, стала Настасья Хрущёва — в ее композиторском портфеле восемь балетов. Творческая удача — «Кармен в моей голове», написанная петербурженкой в содружестве с хореографом Татьяной Багановой по заказу московской «Новой оперы». Писать балеты для российских композиторов стало престижно — афиши российских театров украшают спектакли с новой музыкой Юрия Красавина и Антона Светличного, Анатолия Королёва и Владимира Раннева, Алексея Сысоева и Дмитрия Мазурова, Владимира Горлинского и Сергея Ахунова.
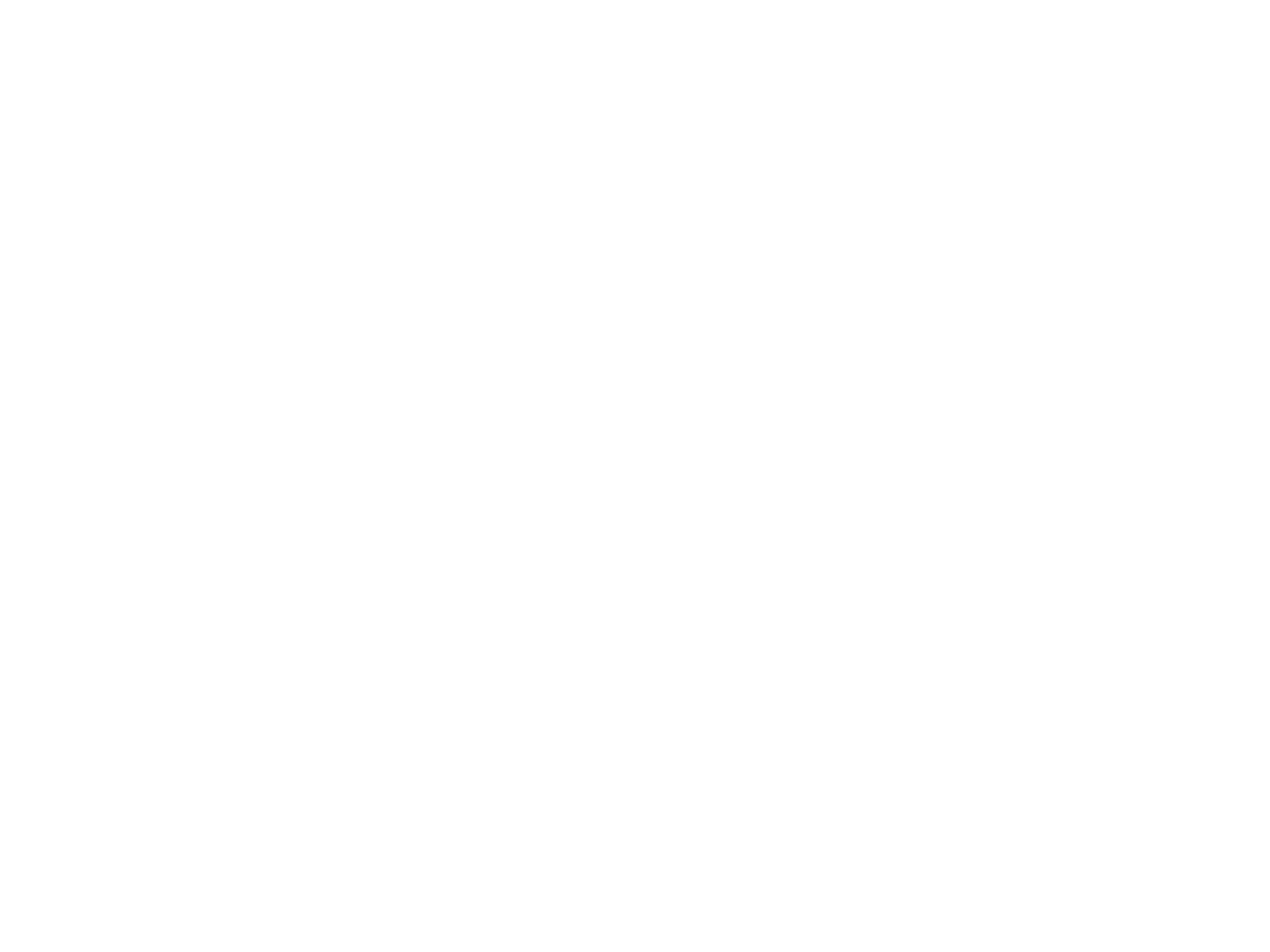
Балет «Кармен в моей голове», театр «Новая опера». Источник фото: https://novayaopera.ru
Из всех танцевальных спектаклей сезона выделю два, их уникальность — в пространственном решении и пластичности материала. «Графит» Владимира Горлинского — результат коллаборации двух институций: московского «ГЭС-2» и екатеринбургской Урал Оперы, главного инициатора спектаклей с новой музыкой. Тридцатиминутный «Графит» уже прошел проверку на прочность: от премьеры на Проспекте «ГЭСа» до интеграции в трехактный вечер вместе с двумя другими балетами Урал Оперы на музыку Антонио Сальери и Отторино Респиги. Для Горлинского, работавшего прежде лишь в сфере современного танца, балет стал новой территорией. Как и для хореографа Антона Пимонова — работа с партитурой современного композитора стала для него новым опытом.
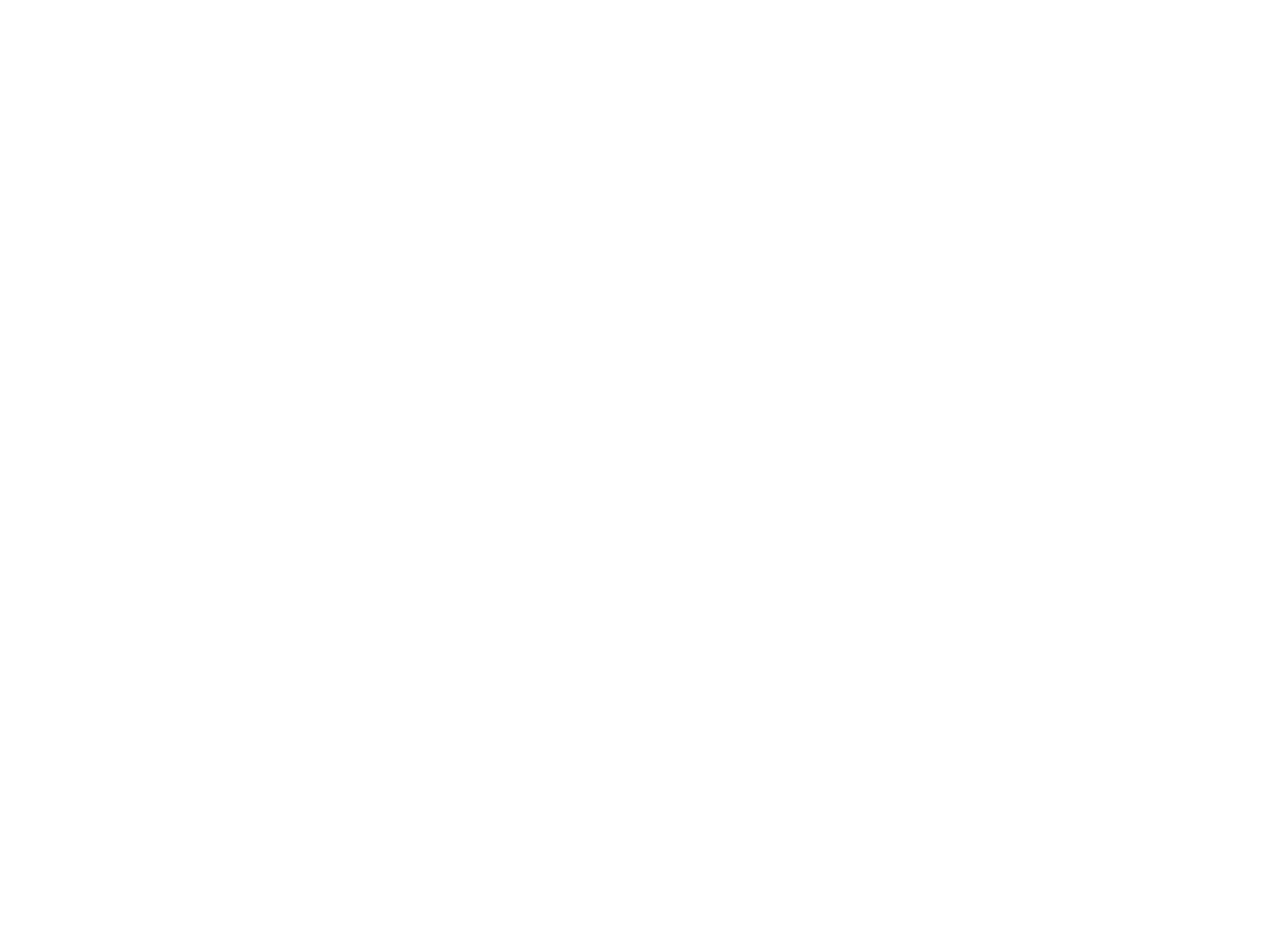
Балет «Графит», Дом культуры «ГЭС-2». Фото — Аня Тодич
Спектакль «Стыд» в Главном штабе Эрмитажа — пластическая история с музыкой Кирилла Архипова. Идею воплотила хореограф Анастасия Пешкова, главную партию исполнила прима-балерина Дарья Павленко. В спектакле есть и балетная лексика, и контемпорари, а еще драматическое слово, экспериментальная музыка и необычные художественные решения по свету. За неделю до премьеры спектакль перенесли из Дома Радио в пространство Атриума Главного штаба Эрмитажа, однако материал оказался чрезвычайно гибким — пластическая история и музыка органично вписались в масштаб и акустику нового зала. В июне «Стыд» покажут на Дягилевском фестивале в Перми.
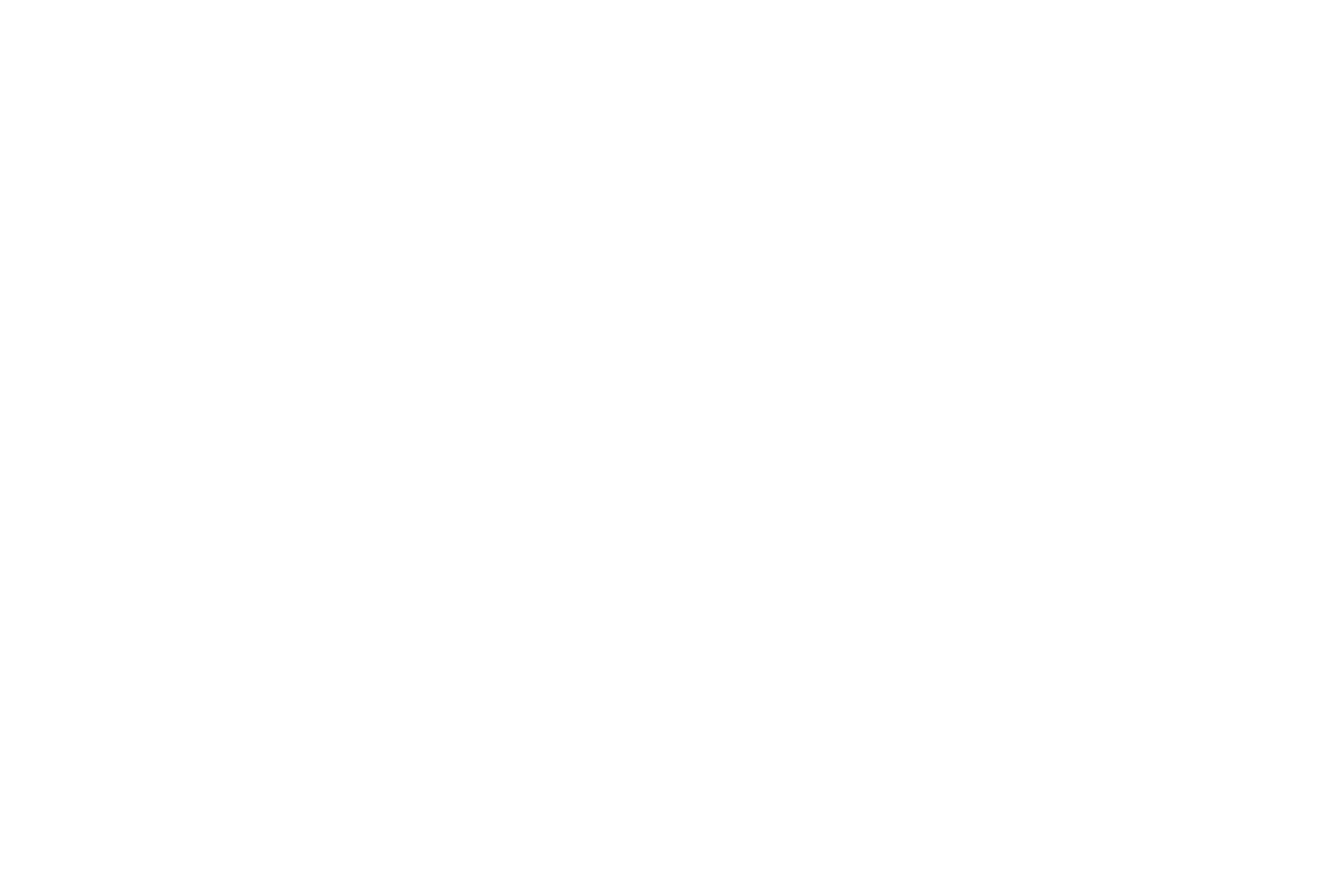
Спектакль «Стыд», Главный штаб Эрмитажа. Фото — Люда Бурченкова
Активно притягивает академических композиторов и драматический театр. Особенно это заметно по новым спектаклям МХТ им. А.П. Чехова. «Старший сын» с музыкой Андрея Бесогонова, «Голод» с партитурой Романа Пархоменко, а совсем скоро на сцене Московского художественного появится постановка «Кабалы святош» по Булгакову с Хабенским и Цискаридзе в главных ролях — композитором заявлен Николай Попов, режиссером выступит Юрий Квятковский. Такая активность говорит не только о расширении театрального языка, но и о новой степени доверия к современным авторам.
2.
Другой важный сдвиг — возрождение крупных форм. Пандемия закончилась, институции вернулись к оркестровым проектам, а специальные программы стали активнее финансировать российских композиторов. В Московской филармонии сыграли премьеры «Реквиема» Алексея Сысоева, Скрипичного концерта Владимира Горлинского (обе партитуры написаны по программе «Ноты и квоты»), а также оркестровую пьесу «Дальше — тишина» Владимира Раннева. В «ГЭС-2» готовятся к исполнению новой партитуры Антона Светличного; продолжается программа «Русская музыка 2.0» (иронично, что после Москвы и Тюмени последний концерт организаторы проводили в Баку).
Из свежих инициатив — программа резиденций Союза композиторов. По ее условиям любой коллектив — от регионального ансамбля до столичного оркестра — может подать заявку, указав конкретного композитора и что от него потребуется. При положительном результате композитор получает финансовую поддержку на эту творческую работу. Благодаря резиденциям Союза Хабаровская филармония сотрудничает с Денисом Хоровым, Российский национальный оркестр уже успел оценить Концерт для виолончели Кузьмы Бодрова, Госхор им. А.В. Свешникова заказал хоровую оперу Варваре Чураковой, а композитор Роман Пархоменко создает мультимедийную композицию для нового пространства татарского Театра Камала.
Из свежих инициатив — программа резиденций Союза композиторов. По ее условиям любой коллектив — от регионального ансамбля до столичного оркестра — может подать заявку, указав конкретного композитора и что от него потребуется. При положительном результате композитор получает финансовую поддержку на эту творческую работу. Благодаря резиденциям Союза Хабаровская филармония сотрудничает с Денисом Хоровым, Российский национальный оркестр уже успел оценить Концерт для виолончели Кузьмы Бодрова, Госхор им. А.В. Свешникова заказал хоровую оперу Варваре Чураковой, а композитор Роман Пархоменко создает мультимедийную композицию для нового пространства татарского Театра Камала.
3.
Есть неочевидный тренд сезона — реинтерпретация «Картинок с выставки». Раз в два года в Нижнем Новгороде проходит фестиваль с таким названием (куратором долгое время был Борис Гецелев, после его ухода им стал его ученик, композитор Марк Булошников), и в 2024-м там реализовали неординарный проект: в одном концерте после фортепианных пьес из «Картинок» Мусоргского прозвучали оркестровые «ответы» одиннадцати современных авторов (среди них — Антон Светличный, Анна Поспелова, Антон Сафронов, Сергей Шестаков).
Тем временем московский Музей Музыки запустил проект «Картинки с выставки 2.0». По заказу Музея московский композитор Кузьма Бодров написал тринадцать пьес для виолончели и фортепиано — каждая соответствует определенной картине новой выставки. В числе живописцев — Константин Коровин, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Николай Рерих, Фёдор Федоровский. Некоторые работы, например «Дочь Пилата» Василия Поленова и «Лиловый конь» Бориса Шаляпина, показаны впервые.
Проект Музея Музыки случился спустя 151 год с момента премьеры самого известного фортепианного сочинения Мусоргского. А в январе этого года «Картинки» зазвучали в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске и Хабаровске, но в необычной инструментовке — для флейты, домры, аккордеона и фортепиано. Специально к дальневосточному туру с «Картинками» новые сочинения написали Денис Хоров, Эльмир Низамов, Ян Круль и Анастасия Дружинина. Опусы продолжили концепт русского классика, став программными музыкальными зарисовками композиторских впечатлений.
Тем временем московский Музей Музыки запустил проект «Картинки с выставки 2.0». По заказу Музея московский композитор Кузьма Бодров написал тринадцать пьес для виолончели и фортепиано — каждая соответствует определенной картине новой выставки. В числе живописцев — Константин Коровин, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Николай Рерих, Фёдор Федоровский. Некоторые работы, например «Дочь Пилата» Василия Поленова и «Лиловый конь» Бориса Шаляпина, показаны впервые.
Проект Музея Музыки случился спустя 151 год с момента премьеры самого известного фортепианного сочинения Мусоргского. А в январе этого года «Картинки» зазвучали в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске и Хабаровске, но в необычной инструментовке — для флейты, домры, аккордеона и фортепиано. Специально к дальневосточному туру с «Картинками» новые сочинения написали Денис Хоров, Эльмир Низамов, Ян Круль и Анастасия Дружинина. Опусы продолжили концепт русского классика, став программными музыкальными зарисовками композиторских впечатлений.
Фестиваль «Картинки с выставки», 2024 год, Нижний Новгород
Фестиваль «Картинки с выставки», 2024 год, Нижний Новгород
Проект «Картинки с выставки 2.0», Музей Музыки. Источник фото: https://music-museum.ru
Проект «Картинки с выставки 2.0», Музей Музыки. Источник фото: https://music-museum.ru
куда ходить за новым
Артхаусная музыка продолжает жить внутри определенных институций. В Москве — это ДК «Рассвет», Дом культуры «ГЭС-2», арт-пространство «Артемьев-центр» при Московской консерватории, галерея «ГРАУНД Солянка», в Петербурге — Новая сцена Александринки. В регионах — «Арсенал» в Нижнем Новгороде, «Смена» в Казани, частная филармония «Триумф» в Перми. Все чаще площадки становятся не просто концертными залами, а центрами культурного тяготения. Вокруг них формируются сообщества: проводятся не только концерты, но и показы авторского кино, театральные перформансы, книжные ярмарки и выставки. Так возникает живая, неоднородная, но вовлеченная публика, способная слышать новое.
ДК «Рассвет», Москва. Источник фото: https://dkrassvet.space
Дом культуры «ГЭС-2», Москва. Фото — Даниил Анненков
Арт-пространство «Артемьев-центр», Москва. Фото предоставлено пресс-службой ЦЭАМ
ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал. Источник фото: arsenal-museum.art
Центр современной культуры «Смена», Казань. Источник фото: ЦСК «Смена»
Частная филармония «Триумф», Пермь
Просветительский вектор проектов с новой музыкой усиливается — «концерты с пояснениями» по-прежнему востребованы. Московская филармония в этом смысле впереди других. Авторские абонементы музыковеда Ярослава Тимофеева «Вещь в себе» и «Весь Стравинский» — события, которые уже стали частью музыкальной истории. Чего стоят только «История солдата» с ГАСО им. Е.Ф. Светланова и с Евгением Цыгановым и Виктором Рыжаковым в роли чтецов или изумительное прочтение «Свадебки» Стравинского ансамблем Questa musica под управлением Филиппа Чижевского. Молодежь, к слову, уже окрестила Тимофеева «Соллертинским XXI века» — такую формулировку я обнаружил в тексте студентки на одной из лабораторий для молодых журналистов.
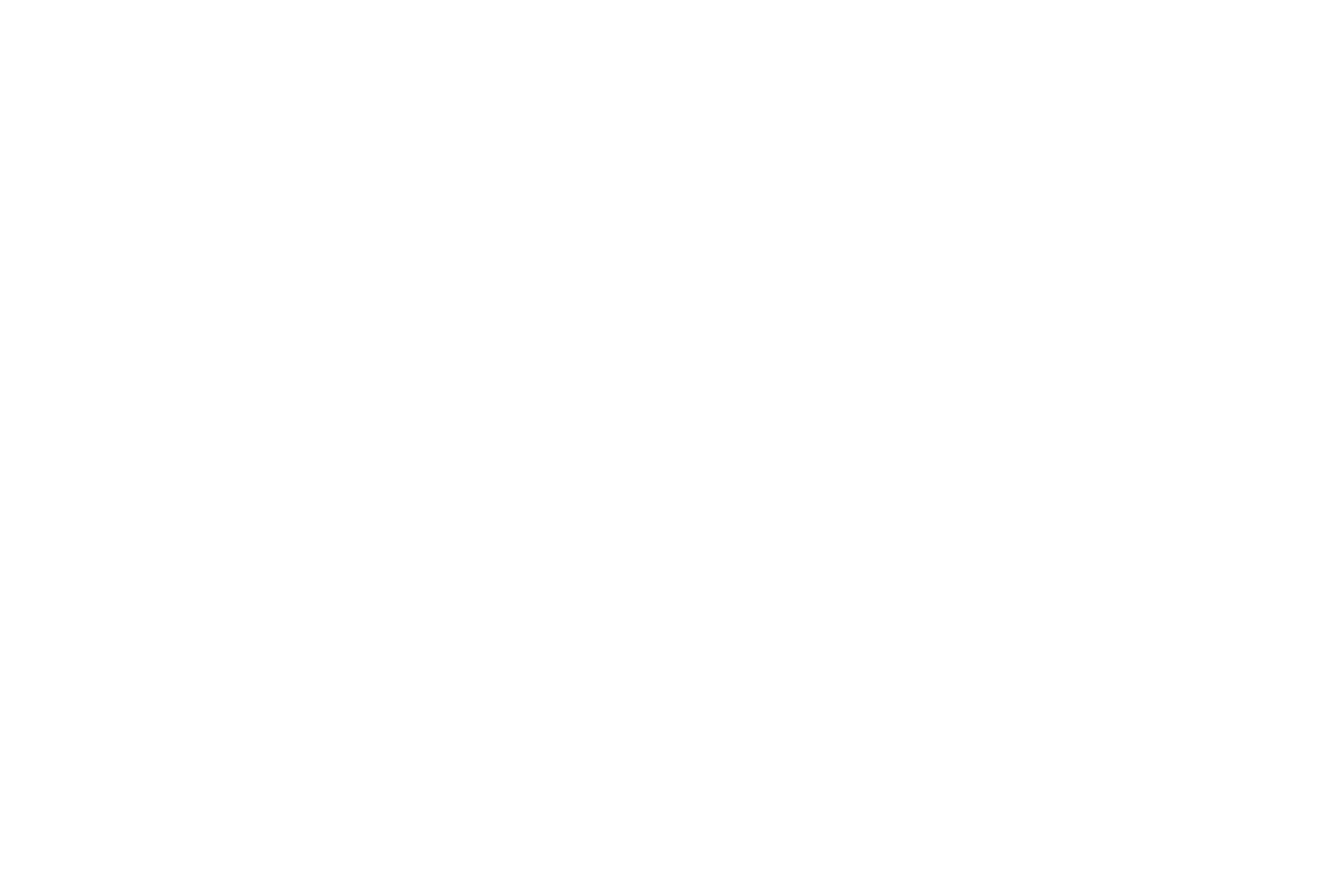
Ярослав Тимофеев
Два проекта Московской филармонии, определяющие контекст новой академической музыки, — это Musica sacra nova и «Другое пространство. Continuo». Первый вырос из инициативы Фонда Николая Каретникова. Кураторы Антон Каретников и Сергей Терентьев собирают редкости: музыку Обухова, Вышнеградского, Лурье или малоизвестные сочинения Губайдулиной, Шнитке, Тертеряна с точки зрения авторских поисков в области сакральной музыки. Второй проект — наследник знаменитого «Другого пространства», ассоциирующегося с фигурой Владимира Юровского. В лучшие годы здесь звучали «Группы» Штокхаузена, Симфония Берио и весь цикл «Акустических пространств» Жерара Гризе. В Москве выступали легендарные Ensemble intercontemporain, а один из сезонов ознаменовался конкурсом для молодых композиторов — партитуры исполнил ГАСО имени Светланова под управлением самого Юровского. «Другое пространство. Continuo» — серия концертов, где в одной программе звучат редкие произведения «отцов» авангарда и премьеры сегодняшнего дня.
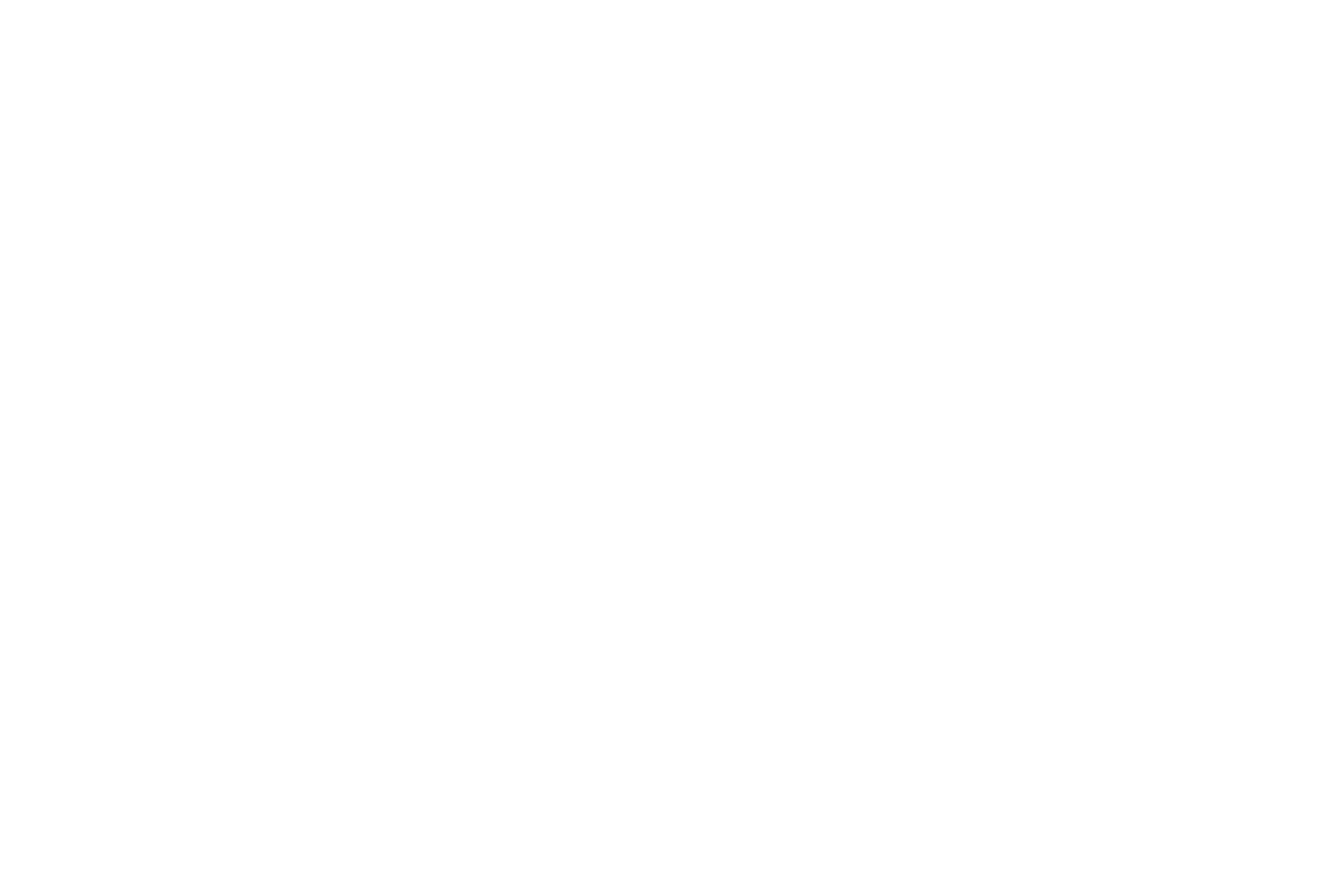
Концерт абонемента Musica sacra nova, 2025, Московская филармония
Ежегодные фестивали — reMusik.org в Петербурге, «Биомеханика», Gnesin contemporary music week, «Пять вечеров» в Москве — точки, где звучат премьеры. Одним из интересных шагов на пути к знакомству консервативной публики с артхаусной музыкой стала январская «Неделя современной музыки» в Зале «Зарядье». За пять концертов на Малой сцене зала выступили солисты Île Thélème Ensemble, коллектив im Spiegel при участии дирижера Фёдора Безносикова, амбассадоры электроники, новых медиа и междисциплинарных проектов CEAM Artists, а также петербургское объединение mader nort, чьи проекты балансируют на грани китча и концептуального искусства.
Важным событием «Недели» стал шоукейс лаборатории «Открытый космос» (автор проекта — Елена Климова, художественный руководитель — Анна Поспелова). Слушатели «Зарядья» познакомились с ультрасовременными произведениями для оркестра народных инструментов: композитор Дмитрий Мазуров вдохновился поиском внеземных цивилизаций и проектами SETI, Алина Мухаметрахимова и Сергей Хворостьянов — отечественной космонавтикой и образом Юрия Гагарина, Роман Пархоменко — физическими свойствами космической пыли.
Важным событием «Недели» стал шоукейс лаборатории «Открытый космос» (автор проекта — Елена Климова, художественный руководитель — Анна Поспелова). Слушатели «Зарядья» познакомились с ультрасовременными произведениями для оркестра народных инструментов: композитор Дмитрий Мазуров вдохновился поиском внеземных цивилизаций и проектами SETI, Алина Мухаметрахимова и Сергей Хворостьянов — отечественной космонавтикой и образом Юрия Гагарина, Роман Пархоменко — физическими свойствами космической пыли.
время слушать новое
Способствует появлению новой музыки и большое количество композиторских лабораторий, резиденций и опен-коллов. Привычные Академия молодых композиторов в г. Чайковский (директор — Виктория Коршунова, художественный руководитель — Александр Хубеев), курсы на фестивале reMusik.org или «Композиторские читки» Союза композиторов продолжаются. Есть резиденция в Переделкино «Лекции по русской литературе», практикум от ансамбля N’Caged «Голос как инструмент», курсы по композиции и импровизации Владимира Горлинского и Алексея Сысоева. Есть уникальное — «Броненосец Потёмкин. Новый курс». По результатам опен-колла три российских композитора напишут новую музыку к 100-летию великой немой киноленты Сергея Эйзенштейна. Три площадки — кинотеатр «Иллюзион», Дом культуры «ГЭС-2» и Большой зал Зарядья — представят фильм в трех новейших музыкальных прочтениях.
Возрос интерес к композиторским лабораториям в регионах. Так, например, на III лабораторию Synesthesia lab в Казани было прислано 232 заявки из 35 стран мира (в их числе Колумбия, Пуэрто-Рико, Филиппины, Австралия). Композиторы, прошедшие отбор, смогут создать новые произведения для таких коллективов, как Московский Ансамбль Современной Музыки, «Студия новой музыки», CEAM Artists, Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а также для Оркестра Театра Камала.
Симфонический оркестр стал предметом исследования и на «Курчатов Лаб». Взаимопроникновение музыки и науки — главная тема этой композиторской лаборатории, которая пройдет в сентябре в Челябинске. Под руководством композитора Владимира Горлинского четверо российских авторов (ограничения по возрасту отсутствуют) напишут новую пьесу для Челябинского оркестра (художественный руководитель и дирижер — Алексей Рубин). Участникам предлагается поразмышлять о связях музыкального искусства и научного знания, рассмотреть звук не просто как физическое явление, но как энергию, которая может воздействовать на слушателей.
Интересен вектор «Композиторских читок» в Нижнем Новгороде — домра, клавишные гусли и даже целый оркестр баянов и аккордеонов. Союз композиторов проводит «Читки» в этом городе сознательно: здесь есть уникальный коллектив — Оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории (художественный руководитель и дирижер — Венедикт Пеунов), исполняющий новую и экспериментальную музыку. В этом контексте не случайна победа Оркестра в программе «Ноты и квоты» и заказ новой партитуры Николаю Попову. Премьеру представили на мультимедийном фестивале Intervals в Нижнем Новгороде в апреле этого года.
Возрос интерес к композиторским лабораториям в регионах. Так, например, на III лабораторию Synesthesia lab в Казани было прислано 232 заявки из 35 стран мира (в их числе Колумбия, Пуэрто-Рико, Филиппины, Австралия). Композиторы, прошедшие отбор, смогут создать новые произведения для таких коллективов, как Московский Ансамбль Современной Музыки, «Студия новой музыки», CEAM Artists, Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной, а также для Оркестра Театра Камала.
Симфонический оркестр стал предметом исследования и на «Курчатов Лаб». Взаимопроникновение музыки и науки — главная тема этой композиторской лаборатории, которая пройдет в сентябре в Челябинске. Под руководством композитора Владимира Горлинского четверо российских авторов (ограничения по возрасту отсутствуют) напишут новую пьесу для Челябинского оркестра (художественный руководитель и дирижер — Алексей Рубин). Участникам предлагается поразмышлять о связях музыкального искусства и научного знания, рассмотреть звук не просто как физическое явление, но как энергию, которая может воздействовать на слушателей.
Интересен вектор «Композиторских читок» в Нижнем Новгороде — домра, клавишные гусли и даже целый оркестр баянов и аккордеонов. Союз композиторов проводит «Читки» в этом городе сознательно: здесь есть уникальный коллектив — Оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории (художественный руководитель и дирижер — Венедикт Пеунов), исполняющий новую и экспериментальную музыку. В этом контексте не случайна победа Оркестра в программе «Ноты и квоты» и заказ новой партитуры Николаю Попову. Премьеру представили на мультимедийном фестивале Intervals в Нижнем Новгороде в апреле этого года.
десять главных событий
В финале — десять событий, которые дают контекст артхаусной музыки и достаточно четко отвечают на вопрос «Что произошло в России с новой музыкой за последний сезон?»
ПРОЕКТ ГОДА.
Композиторская лаборатория «Пиши балет»
Екатеринбург, театр «Урал Опера Балет»
Композиторская лаборатория «Пиши балет»
Екатеринбург, театр «Урал Опера Балет»
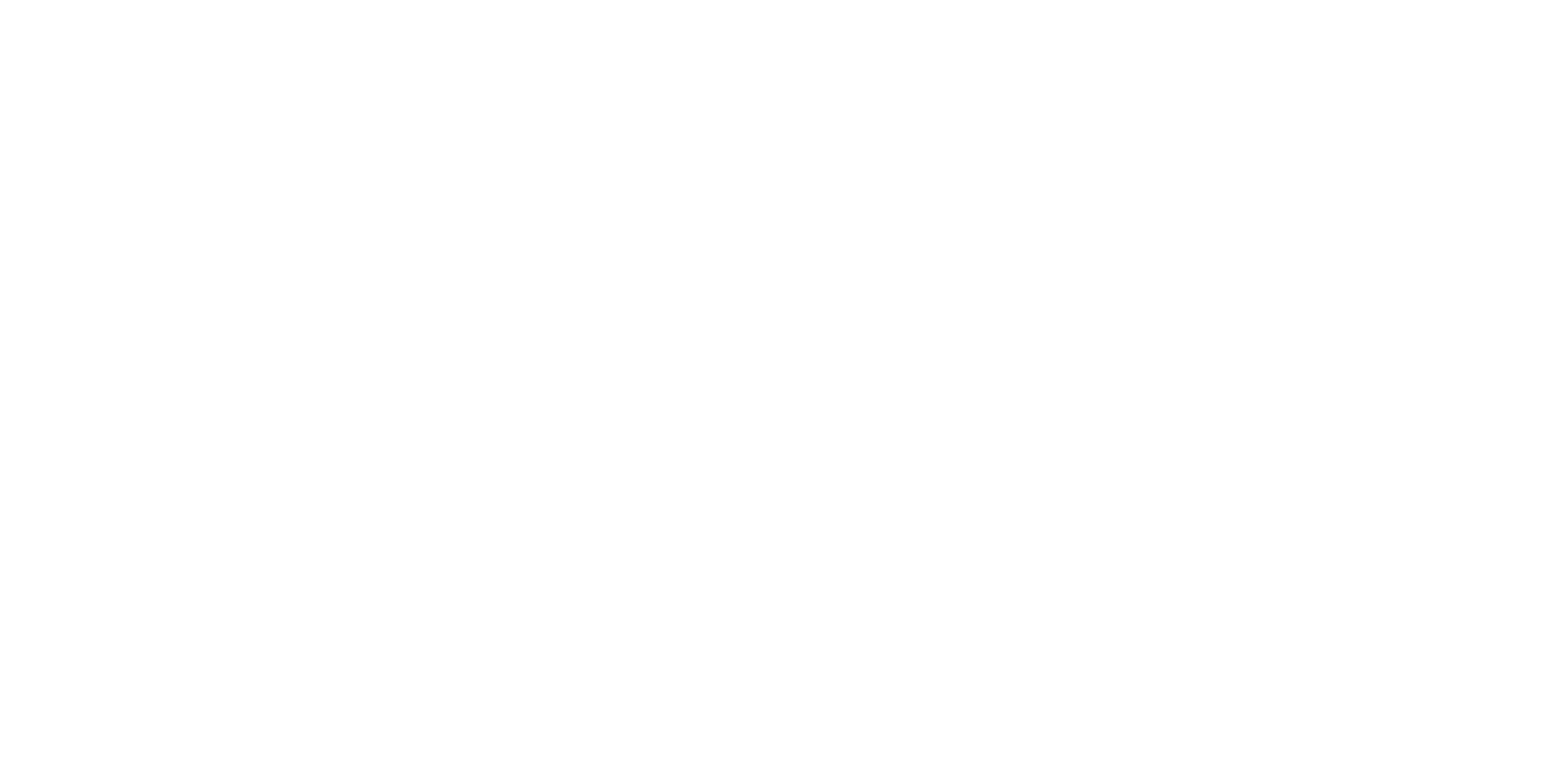
Впервые композиторская лаборатория получает такой масштаб: самое крупное композиторское объединение страны (Союз композиторов России) и самый активный театр-заказчик новой музыки («Урал Опера Балет») предлагают шести композиторам, отобранным на конкурсной основе, написать балет — для начала небольшой, но сразу принимаемый к постановке. Премьера состоится в начале декабря 2025 года в Екатеринбурге, затем видеоверсию спектакля презентуют в Санкт-Петербурге на Международном фестивале искусств «Дягилев P.S.».
АЛЬБОМ ГОДА.
Алексей Сысоев «Семь песен на стихотворения Эзры Паунда»
Москва, лейбл «Мелодия»
Алексей Сысоев «Семь песен на стихотворения Эзры Паунда»
Москва, лейбл «Мелодия»
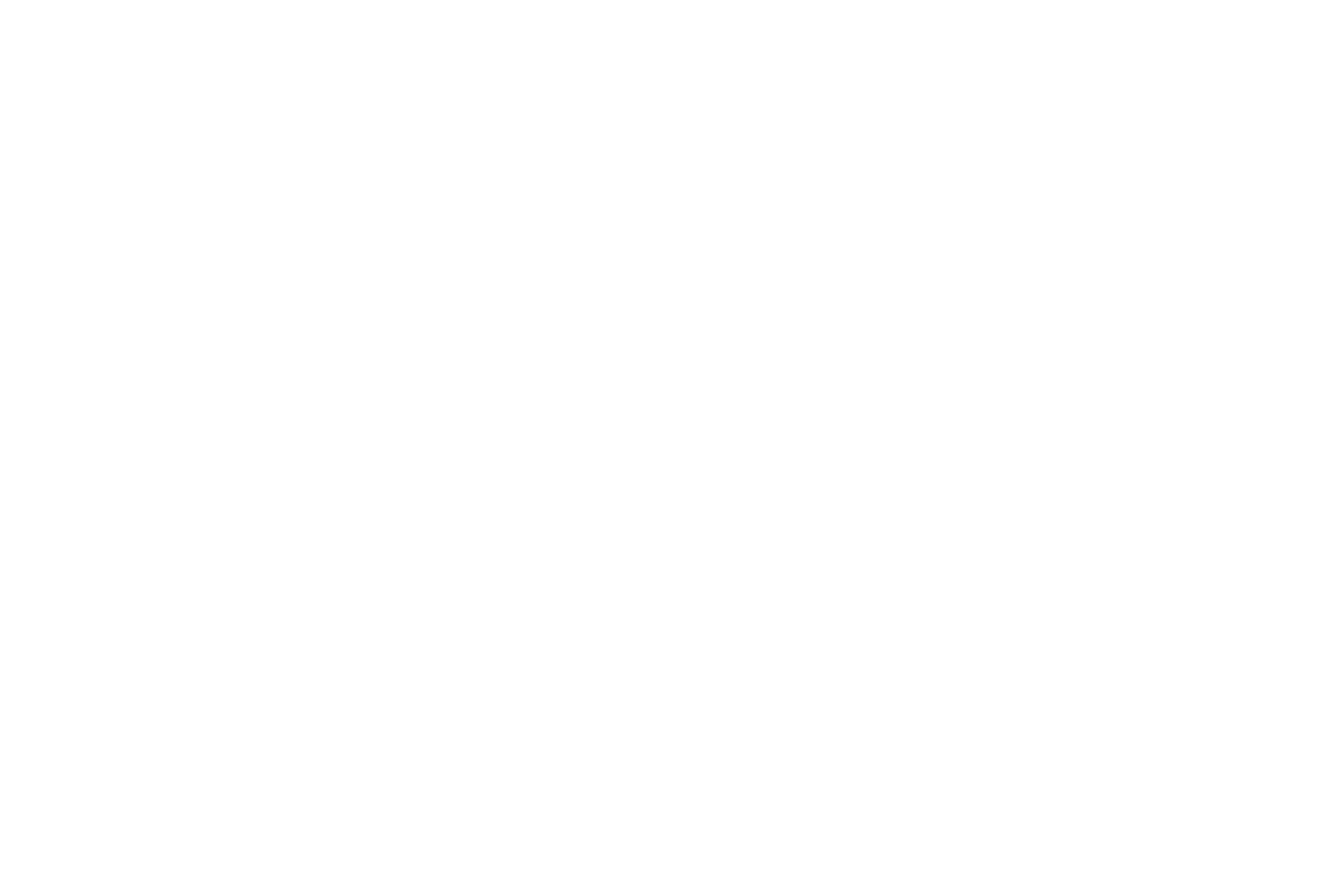
Алексей Сысоев
Хрупкая поэзия Эзры Паунда оказалась идеальным источником для музыки Алексея Сысоева, одного из главных российских композиторов сегодняшнего дня. Цикл мотетов, как их называет сам автор, создавался с расчетом на солистов N’Caged, экспертов в области исполнения артхаусной музыки. В новом альбоме, изданном на лейбле «Мелодия», сплелись ренессансные традиции и бессознательное влияние поп-музыки, изысканность поэзии Паунда и неординарные художественные идеи Сысоева. Альбом вошел в антологию Союза композиторов России «Звуковой обзор».
ОПЕРА.
Екатерина Хмелевская «Подводные крылья»
Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд»
Екатерина Хмелевская «Подводные крылья»
Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд»
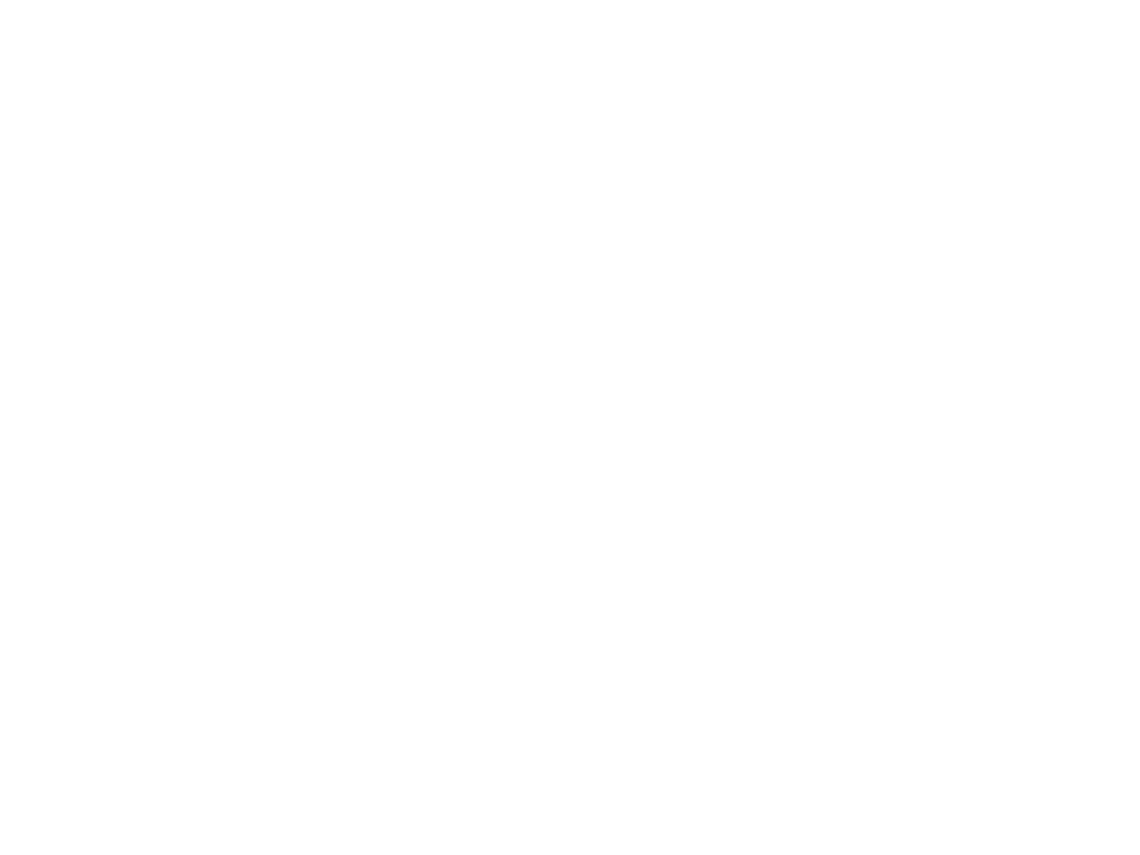
Биография нижегородского конструктора-новатора Ростислава Алексеева, который изобрел суда на подводных крыльях, вдохновила Екатерину Хмелевскую на создание оперы. Композитор преобразовала воспоминания очевидцев, хронику и документальные материалы в интересную художественную форму. В спектакле задействованы местные коллективы — Камерный хор «Нижний Новгород» под руководством Ивана Стольникова, а также Оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории под управлением Венедикта Пеунова.
БАЛЕТ.
Владимир Горлинский «Перигелий»
Москва, Театр Станиславского и Немировича-Данченко
Владимир Горлинский «Перигелий»
Москва, Театр Станиславского и Немировича-Данченко
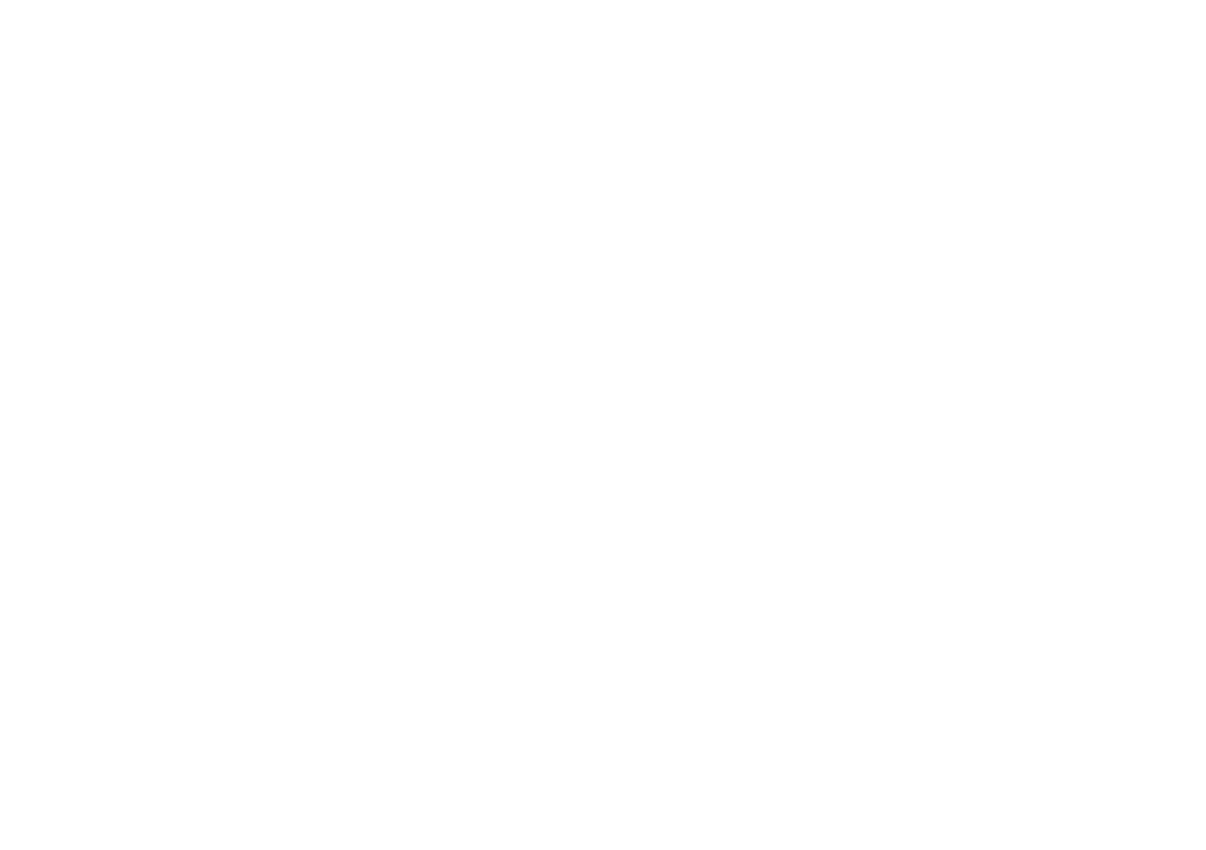
«Перигелий», Константин Никитин. Фото — Александр Филькин
Перигелий — момент, когда Земля (или другая планета) ближе всего подлетает к Солнцу. Создатели балета размышляют о космическом и человеческом — в сценографии не случайны отсылки к «Новой планете» Юона. За плечами Славы Самодурова, хореографа «Перигелия», многолетний опыт диалога с современными композиторами: гениальная «Танцемания» на музыку Юрия Красавина, работа с Алексеем Сысоевым для Урал Балета и проект с Владимиром Ранневым для Пермской оперы. Теперь к этому списку добавилась партитура Владимира Горлинского.
КОНЦЕРТ.
SYNThESIA. Спецпроект Международного фестиваля и лаборатории современной музыки Synesthesia lab
Казань, Big Twin Arena
SYNThESIA. Спецпроект Международного фестиваля и лаборатории современной музыки Synesthesia lab
Казань, Big Twin Arena
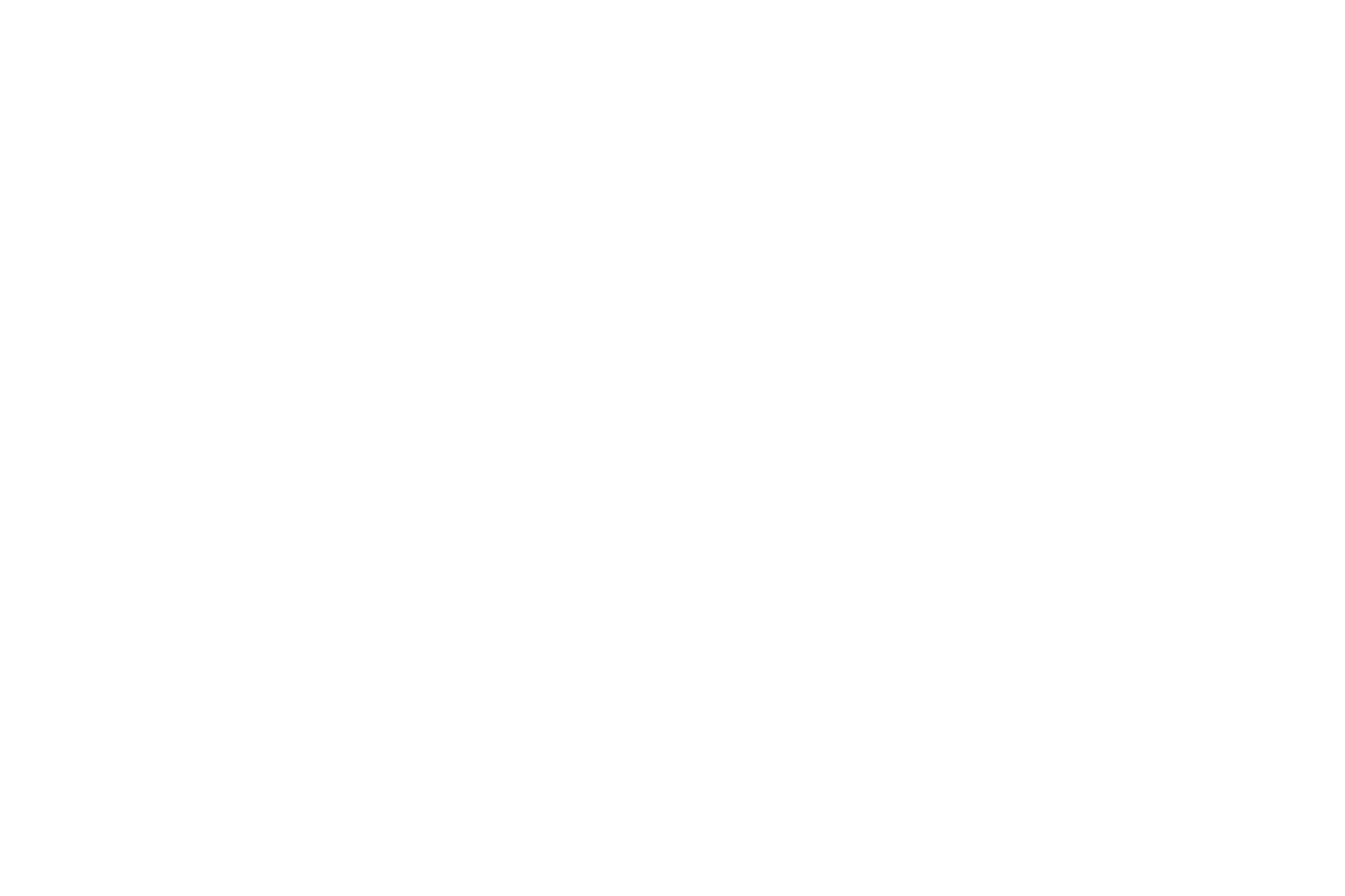
Легенда современной электронной и поп-музыки Юрий Усачёв вместе с казанским оркестром Центра Софии Губайдулиной под управлением Романа Пархоменко сотворили чудо. Электронный альбом Усачёва Secret box обрел новое звучание, благодаря оригинальным рекомпозициям. Их выполнили восемь талантливых авторов: Анна Поспелова, Алина Мухаметрахимова, Лилия Исхакова, Вадим Генин, Екатерина Винник, Евгений Притужалов, Игнат Красиков и Роман Пархоменко. Концерт прошел на территории Big Twin Arena и стал одним из главных мультимедийных проектов международного фестиваля Synesthesia lab.
ФЕСТИВАЛЬ.
«Точка света»
Иркутск, Иркутская филармония
«Точка света»
Иркутск, Иркутская филармония
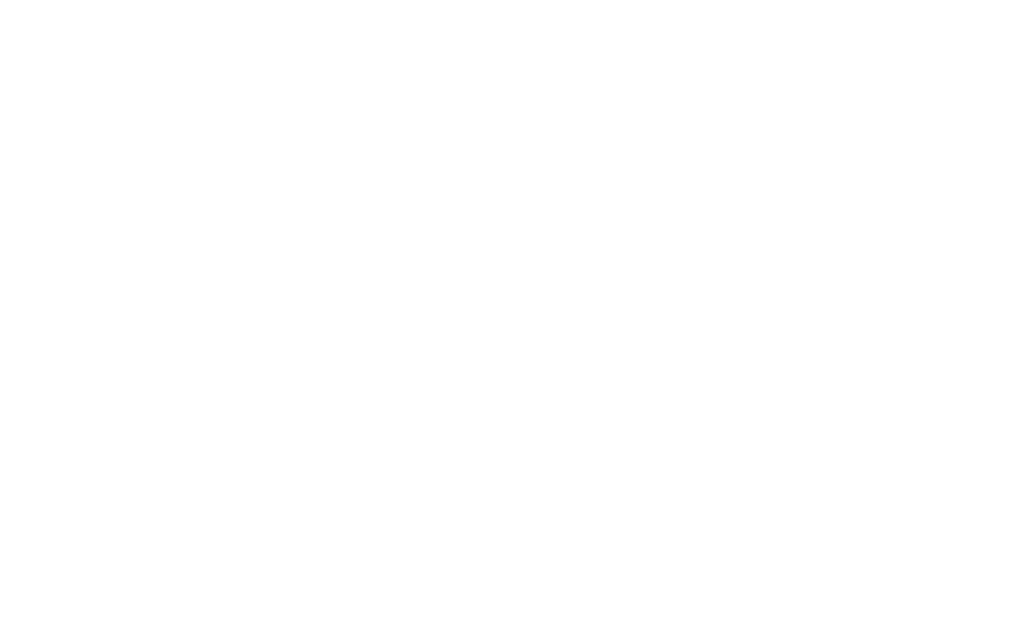
Для родного Иркутска композитор Ян Круль придумал фестиваль современной музыки, первый в истории региона. На сцене Иркутской филармонии звучали не только сочинения композиторов Восточной Сибири, но и музыка Диниса Курбанова (Екатеринбург), Тимура Исмагилова (Уфа/Московская область), Глеба Никулина (Новосибирск). Фестиваль включал и просветительскую часть: лекции доктора искусствоведения Людмилы Гавриловой из Красноярска и Элины Андриановой — лектора и редактора «Музыкальной академии». Получился проект с выстроенным контекстом — редкость даже для столичных музыкальных фестивалей.
СОБЫТИЕ.
Владимир Раннев «Серенада"
Москва, Концерт в честь 10-летия The Blueprint
Владимир Раннев «Серенада"
Москва, Концерт в честь 10-летия The Blueprint
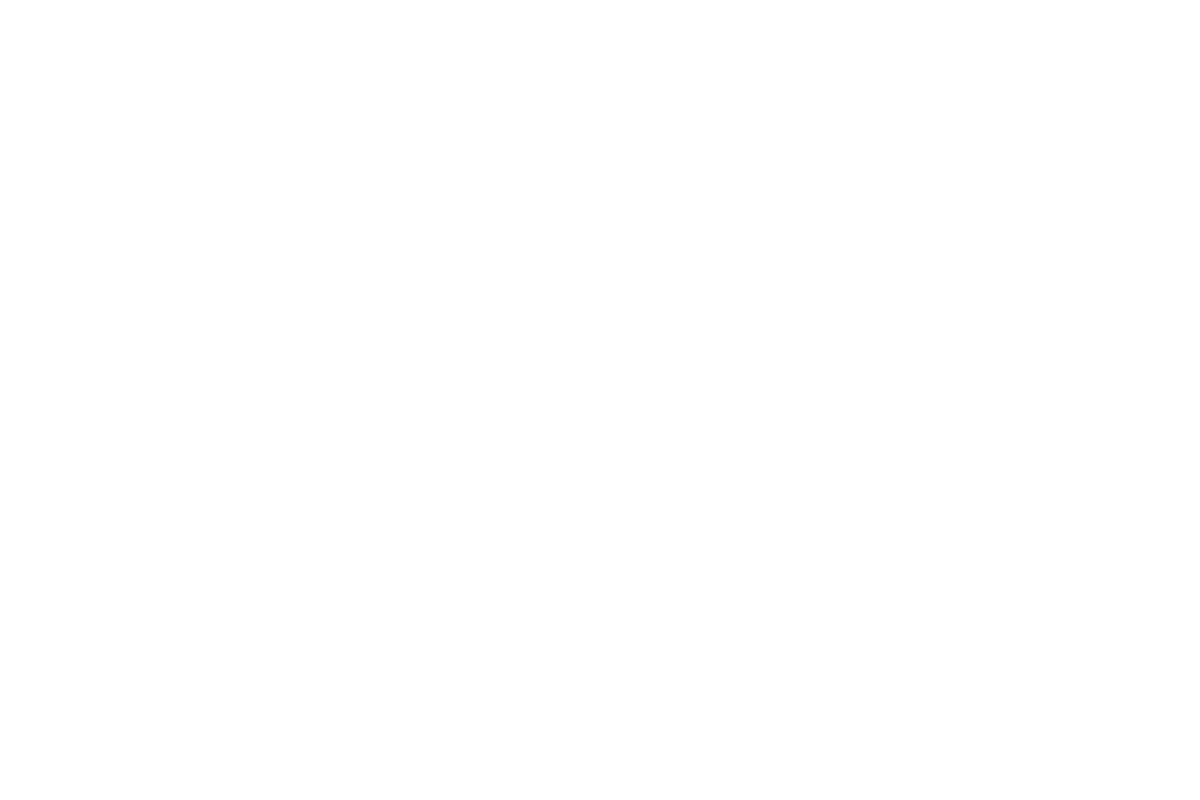
Для Владимира Раннева характерны концептуальные пары — мировая премьера симфонической пьесы «Дальше — тишина» в Московской филармонии повторяет его идеи для выставки «Настройки», показанной в Доме культуры «ГЭС-2», а «Пальба», написанная по программе «Ноты и квоты», фактически копирует концепцию пьесы концепт пьесы «Вот такая любовь», созданной композитором десятилетием ранее. Однако не стоит упрекать автора в лени или думать о «конце времени композиторов». Для Раннева музыкальная материя часто обретает актуальное звучание благодаря ряду событий (как это было в его «Белорусских песнях»).
«Серенада» — это рефлексия по поводу трагической гибели поэта Льва Рубинштейна. Композиция пьесы крайне проста и одновременно сложна: две солистки-вокалистки в сопровождении ансамбля из одиннадцати музыкантов многократно пропевают текст Рубинштейна «Наша жизнь сама собой / По волнам несется / С бесконечною тоской». Слова утрачивают смысл, оставляя лишь фонетическую краску. Цитируя одного из героев пьесы Сэмюэла Беккета, слова подводят нас. «Серенада» — шедевр, исполненный год назад в «ГЭС-2». Теперь эта музыка украсила концерт в честь 10-летия издания The Blueprint.
«Серенада» — это рефлексия по поводу трагической гибели поэта Льва Рубинштейна. Композиция пьесы крайне проста и одновременно сложна: две солистки-вокалистки в сопровождении ансамбля из одиннадцати музыкантов многократно пропевают текст Рубинштейна «Наша жизнь сама собой / По волнам несется / С бесконечною тоской». Слова утрачивают смысл, оставляя лишь фонетическую краску. Цитируя одного из героев пьесы Сэмюэла Беккета, слова подводят нас. «Серенада» — шедевр, исполненный год назад в «ГЭС-2». Теперь эта музыка украсила концерт в честь 10-летия издания The Blueprint.
РАРИТЕТ.
«Голубая тетрадь» Эдисона Денисова
Москва, Рахманиновский зал Московской консерватории
«Голубая тетрадь» Эдисона Денисова
Москва, Рахманиновский зал Московской консерватории
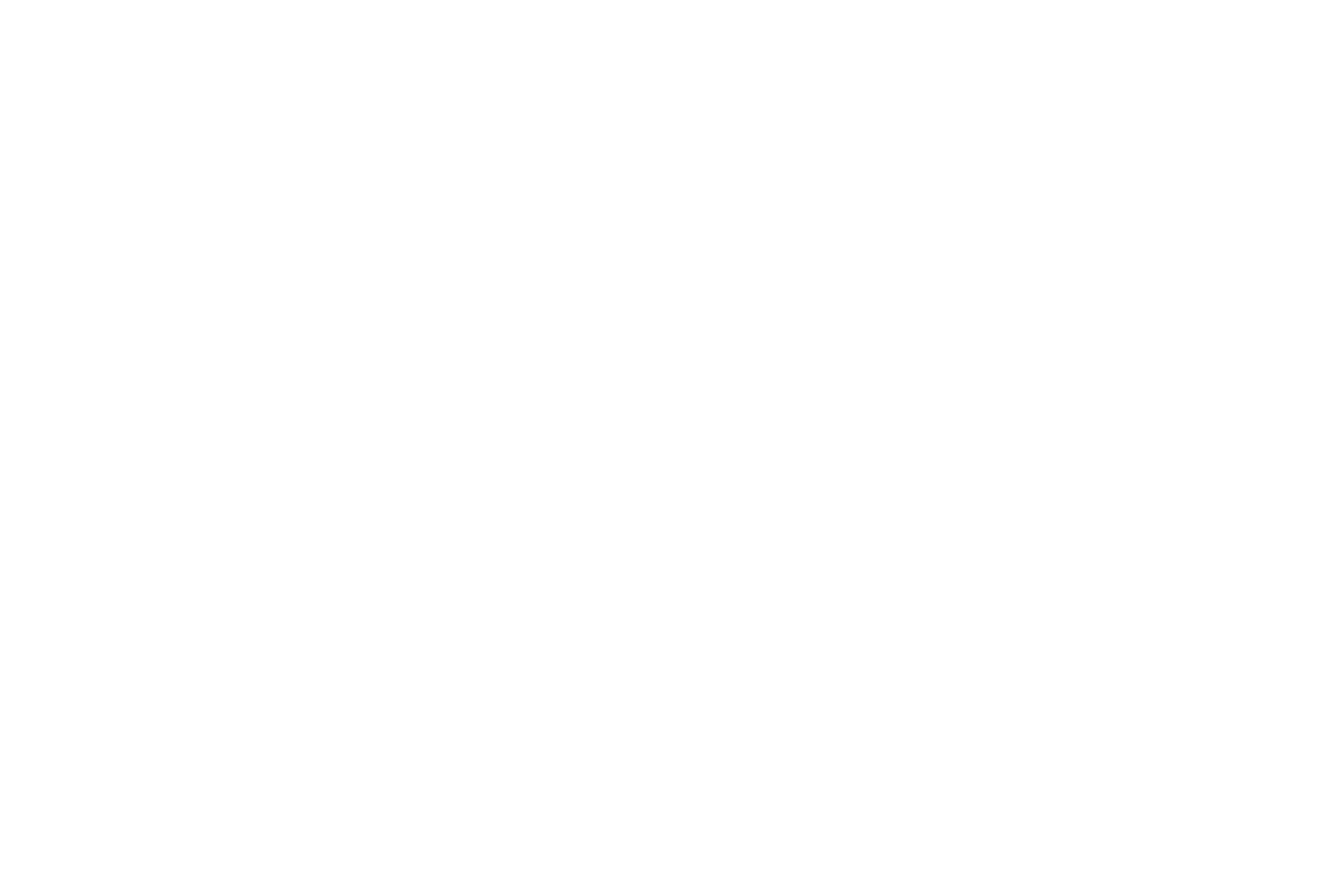
Исполнение «Голубой тетради» Эдисона Денисова в Москве — событие, приуроченное к 95-летию со дня рождения композитора. В этой партитуре (к слову, до сих пор не изданной) композитор соединяет драматическое слово, вокал и музыкальные инструменты, а тексты Хармса и Введенского звучат как никогда актуально. В роли чтеца выступил известный актер театра и кино Вениамин Смехов — эту роль он исполнял и на премьере «Тетради» в 1985-м, даже работал над ролью с самим Денисовым! Певица Алёна Верин-Галицкая и солисты ансамбля «Студия новой музыки» подошли к этому произведению с большим пиететом. Благодаря Союзу композиторов «Голубая тетрадь» была записана этим составом — релиз выйдет на лейбле «Мелодия» осенью.
КОЛЛАБОРАЦИЯ.
Киноконцерт «Кафка в Афинах»
Москва, Электротеатр Станиславский
Киноконцерт «Кафка в Афинах»
Москва, Электротеатр Станиславский
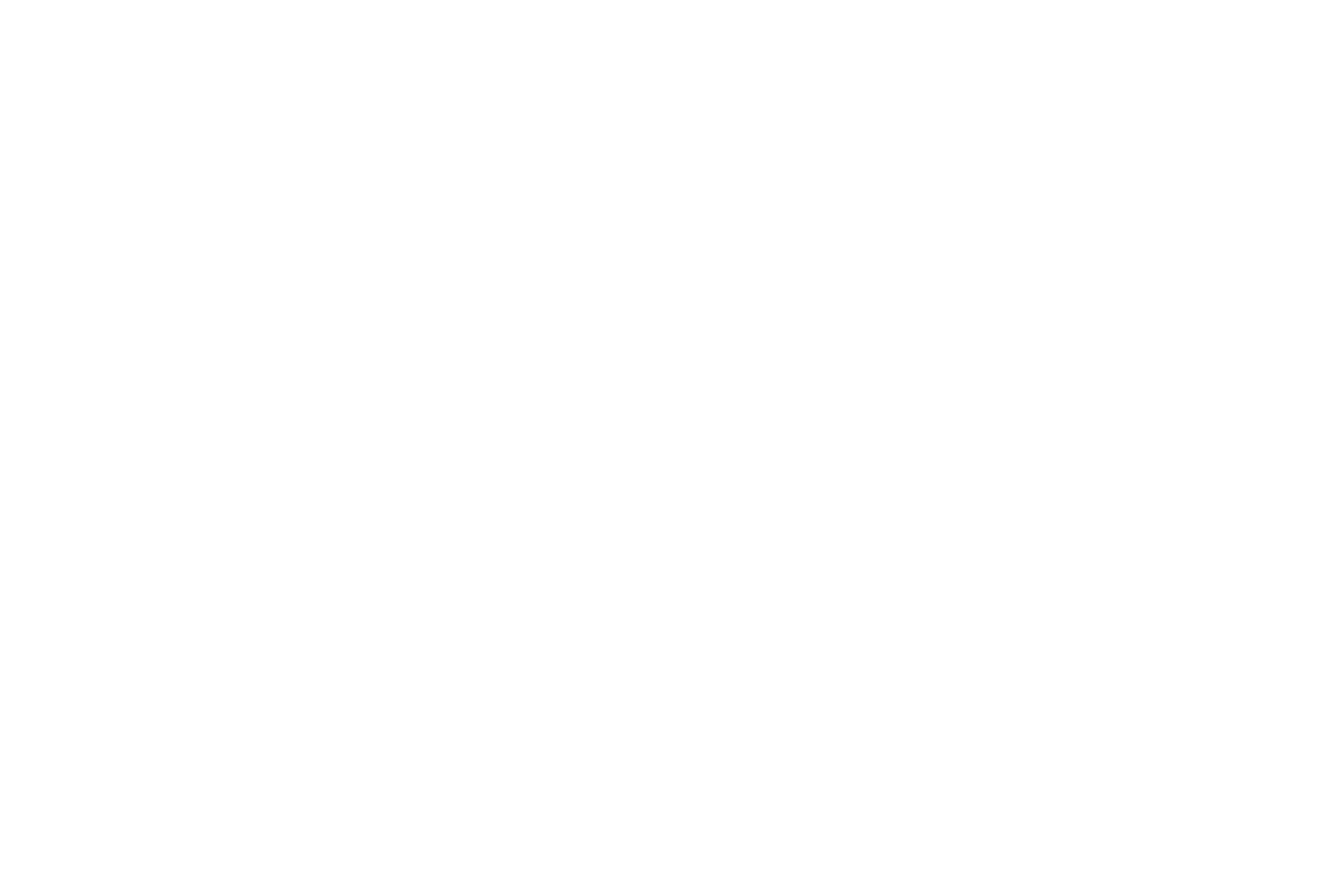
Междисциплинарность, структурные игры и смысловые мерцания стали визитной карточкой проектов режиссера Бориса Юхананова. Эпоха оперного сериала «Сверлийцы» или масштабных «Орфических игр» сменилась похождениями Ангела Дримса (новый оперный проект «Нонсенсорики Дримса») и трилогией «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона», где сплелись Реквием Моцарта, драматургия Теннесси Уильямса и рэп. На этот раз Борис Юхананов и музыкальный руководитель постановки Ольга Бочихина пригласили к сотворчеству более 50 разных креаторов: молодых композиторов, музыкантов и выпускников режиссерской лаборатории МИР-7. Тетралогию, в которой границы между театром, инсталляцией, музыкальным сочинением и кино оказались невероятно пластичными, показали на Малой сцене Электротеатра Станиславского.
НА СТЫКЕ ЖАНРОВ.
Hauntology, кураторский проект Дмитрия Мазурова
Москва
Hauntology, кураторский проект Дмитрия Мазурова
Москва
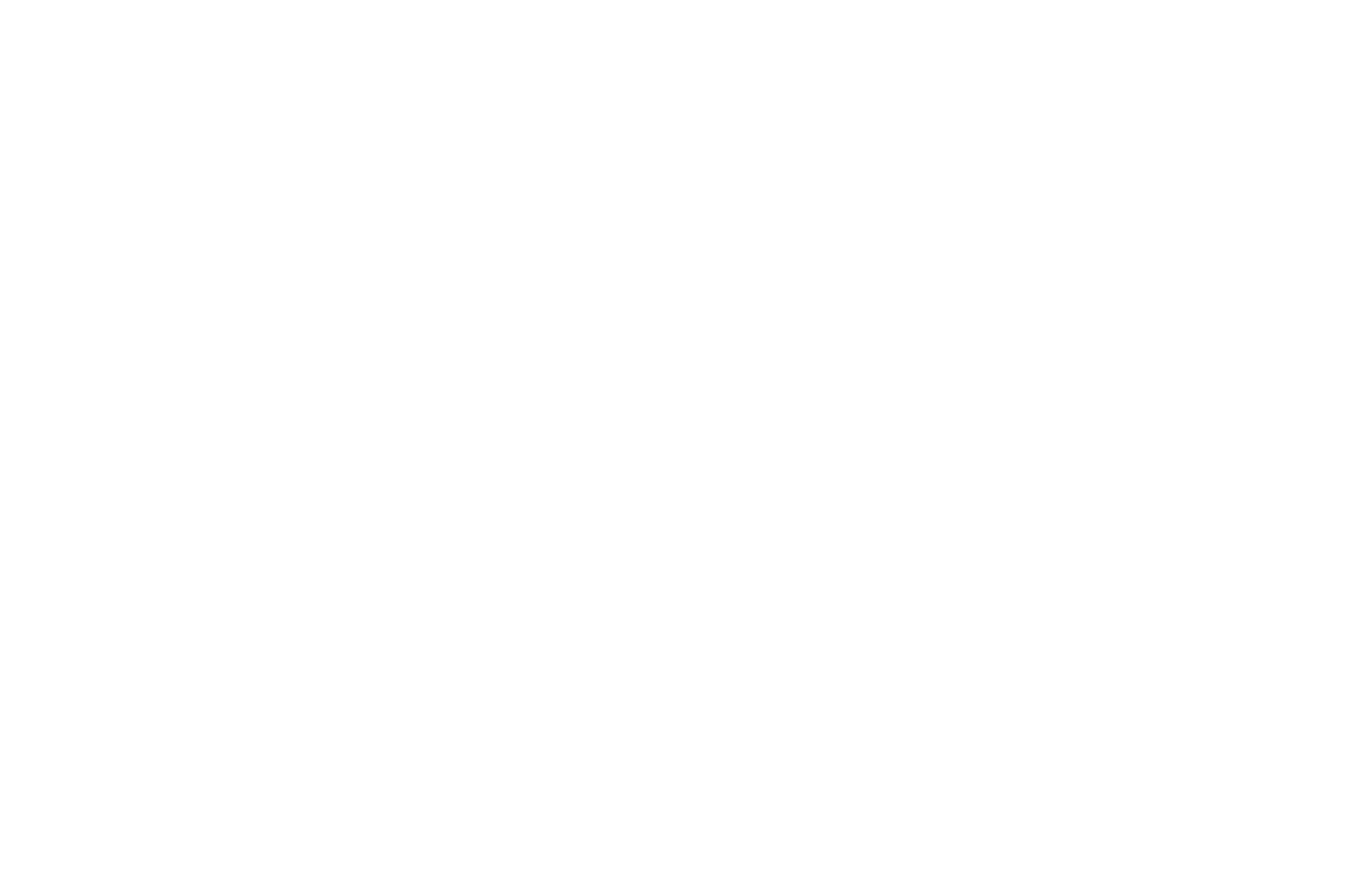
Для композитора и саунд-артиста Дмитрия Мазурова хонтология — концепт чрезвычайно личный. Именно так он назвал одну из своих пьес и даже авторский телеграм-канал. Термин, введенный Жаком Деррида в 1990-е, в современной трактовке философа и музыкального критика Марка Фишера обрел новую жизнь как ностальгия по будущему, которое так и не стало реальностью.
Идея концертного цикла Hauntology — музыка вне жанровых ограничений. Это произведения, в которых выражены смыслы и образы хонтологии. Композиции Burial или Boards of Canada, традиционно связываемые с хонтологией, в концертах Мазурова легко монтируются с музыкой Баха или минимализмом Дэвида Лэнга, а акустические версии песен ANOHNI — с легендарными треками Aphex Twin. Дмитрий Мазуров выстраивает хонтологический калейдоскоп — от выступлений в Храме Святого Людовика, Англиканской церкви Святого Андрея или ДК «Рассвет» до рейвов в Арме.
Идея концертного цикла Hauntology — музыка вне жанровых ограничений. Это произведения, в которых выражены смыслы и образы хонтологии. Композиции Burial или Boards of Canada, традиционно связываемые с хонтологией, в концертах Мазурова легко монтируются с музыкой Баха или минимализмом Дэвида Лэнга, а акустические версии песен ANOHNI — с легендарными треками Aphex Twin. Дмитрий Мазуров выстраивает хонтологический калейдоскоп — от выступлений в Храме Святого Людовика, Англиканской церкви Святого Андрея или ДК «Рассвет» до рейвов в Арме.
Неполный и неокончательный дайджест зарубежных музыкальных фестивалей
данила
матросов
матросов
Куратор, звуковой художник. Выпускник философского факультета Уральского университета и участник различных образовательных лабораторий в области звукового искусства и современной музыки. Как куратор, музыкант и художник работал с уральскими ансамблями InterText и «царапина», Ельцин-центром, Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Фотографическим музеем Дом Метенкова, фестивалями Sound Around Kaliningrad, Звук вокруг — Камчатка, Gnesin Contemporary Music Week. Живет и работает в Екатеринбурге.
В подобные подборки попадают, как правило, крупные и известные международные фестивали, содержание которых часто отражает глобальный характер мира и системы искусства. Однако сегодня все яснее чувствуется кризис глобального, мир все глубже погружается в изоляционизм, все больше внимания уделяется вновь обозначившимся границам. Данные процессы тоже влияют на содержание культурных событий. Темы и программы фестивалей все чаще отражают локальные особенности конкретных регионов. Именно это бывает трудно уловить и объяснить, живя в другой среде. И тому есть две причины: невысокий уровень медийности иностранных проектов в России и наше непонимание отдельных процессов (ведь каждый смотрит через призму собственного опыта и местного контекста).
Поэтому перед вами — сугубо субъективная, и, конечно же, неполная подборка зарубежных фестивалей. В ней не отражены многие значимые события и регионы, но она стремится выявить общее в темах, с которыми работают кураторы, подсветить актуальные проблемы, касающиеся сложных отношений локального и глобального, новых технологий и нашего будущего. В конечном счете, при том, что фестивали вбирают и объединяют разные тенденции, все они стремятся ответить на вопрос о том, возможен ли другой мир.
Поэтому перед вами — сугубо субъективная, и, конечно же, неполная подборка зарубежных фестивалей. В ней не отражены многие значимые события и регионы, но она стремится выявить общее в темах, с которыми работают кураторы, подсветить актуальные проблемы, касающиеся сложных отношений локального и глобального, новых технологий и нашего будущего. В конечном счете, при том, что фестивали вбирают и объединяют разные тенденции, все они стремятся ответить на вопрос о том, возможен ли другой мир.
4–8 сентября 2024, Линц (Австрия)
Ars Electronica Festival — HOPE who will turn the tide
Ars Electronica Festival — HOPE who will turn the tide
Один из самых значимых фестивалей медиаискусства основан кибернетиком и физиком Гербертом Франке, электронным музыкантом Хубертом Богнермайером и музыкальным продюсером Улли Рютцелем и традиционно включает музыку, в том числе академическую. В 2024 году куратором музыкальной программы выступил Николас Шерер.
Главное состояние последнего фестиваля — надежда. Надежда — это не пассивное ожидание, по мнению организаторов, а движущая сила перемен, дающая уверенность в том, что мы способны влиять на будущее и улучшать его.
В программу фестиваля в 2024 году входили в основном междисциплинарные проекты, которые могли бы относиться к медиа- или сайнс-арту (в одном из них музыканты взаимодействовали с роботами, в другом — с микробиотой). Однако на заключительном концерте была только музыка. В финале пианистка Маки Намекава и Филармонический оркестр Брно под управлением Денниса Рассела Дэвиса исполнили композицию Филипа Гласса Mishima.
Программа
Главное состояние последнего фестиваля — надежда. Надежда — это не пассивное ожидание, по мнению организаторов, а движущая сила перемен, дающая уверенность в том, что мы способны влиять на будущее и улучшать его.
В программу фестиваля в 2024 году входили в основном междисциплинарные проекты, которые могли бы относиться к медиа- или сайнс-арту (в одном из них музыканты взаимодействовали с роботами, в другом — с микробиотой). Однако на заключительном концерте была только музыка. В финале пианистка Маки Намекава и Филармонический оркестр Брно под управлением Денниса Рассела Дэвиса исполнили композицию Филипа Гласса Mishima.
Программа
15–17 ноября 2024, Люцерн (Швейцария)
Forward Festival
Forward Festival
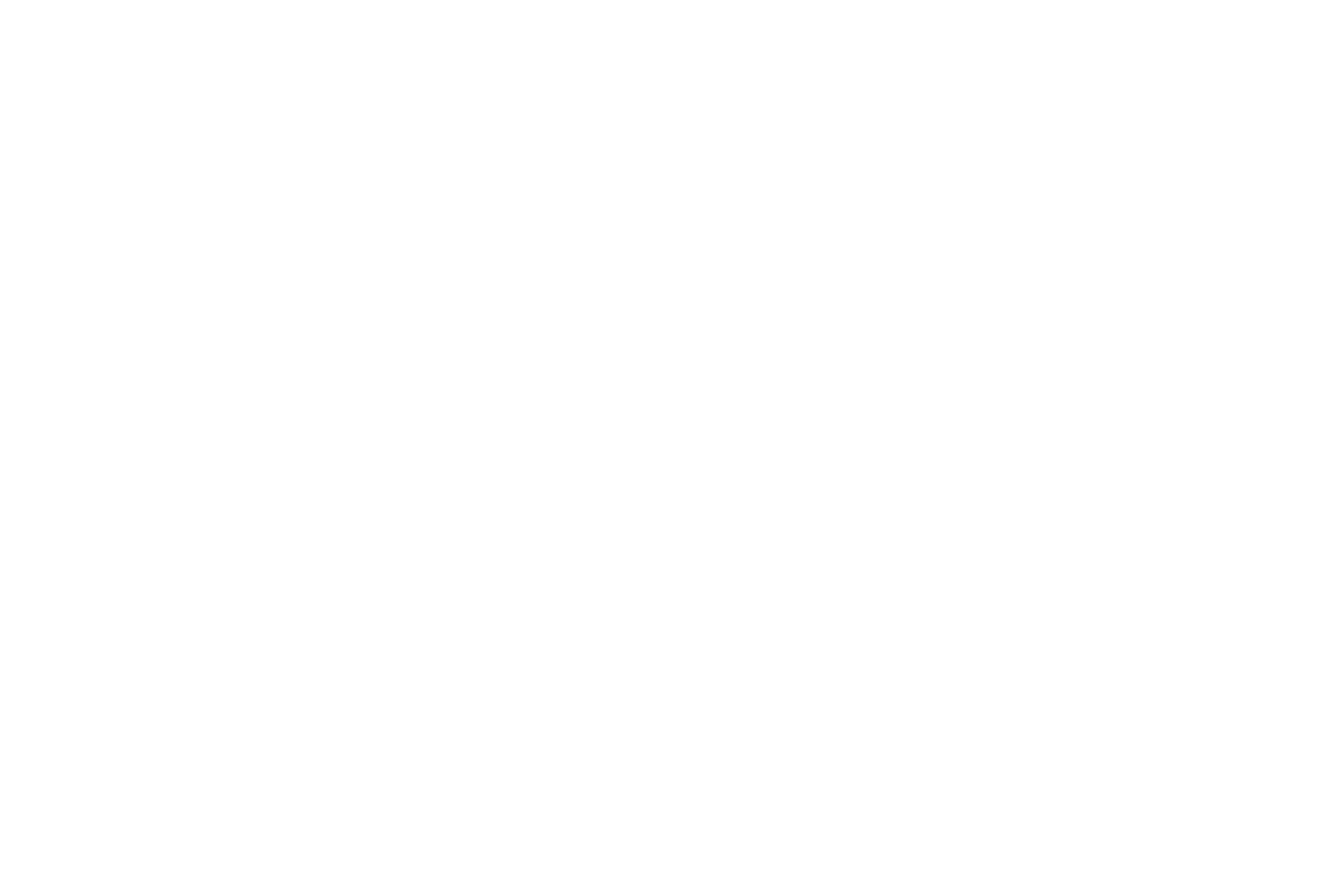
Forward Festival — часть ежегодного Lucerne Festival, ориентированная на музыку нашего времени. В этом сезоне его кураторами стали исполнители из коллектива Lucerne Festival Contemporary Leaders.
В 2024 году программа фестиваля строилась вокруг актуальных переживаний современности и включала четыре тематических концерта: «Сигналы», «Печаль», «Транс», «Dona nobis pacem». В центре внимания были размышления о поиске смысла музыки в экстремальных обстоятельствах. Кураторы и участники фестиваля сознательно акцентировали внимание на темах тревоги, боли, поиска мира и новых форм коммуникации, а также на диалоге между поколениями и культурами. В концертах прозвучали произведения Галины Уствольской, Майкла Херша, Блеза Убальдини, Ханны Кендалл, Самира Оде-Тамими и Анны Корсун.
Программа
В 2024 году программа фестиваля строилась вокруг актуальных переживаний современности и включала четыре тематических концерта: «Сигналы», «Печаль», «Транс», «Dona nobis pacem». В центре внимания были размышления о поиске смысла музыки в экстремальных обстоятельствах. Кураторы и участники фестиваля сознательно акцентировали внимание на темах тревоги, боли, поиска мира и новых форм коммуникации, а также на диалоге между поколениями и культурами. В концертах прозвучали произведения Галины Уствольской, Майкла Херша, Блеза Убальдини, Ханны Кендалл, Самира Оде-Тамими и Анны Корсун.
Программа
2–29 ноября 2024, Берлин (Германия)
VOICES Performing Arts Festival
VOICES Performing Arts Festival
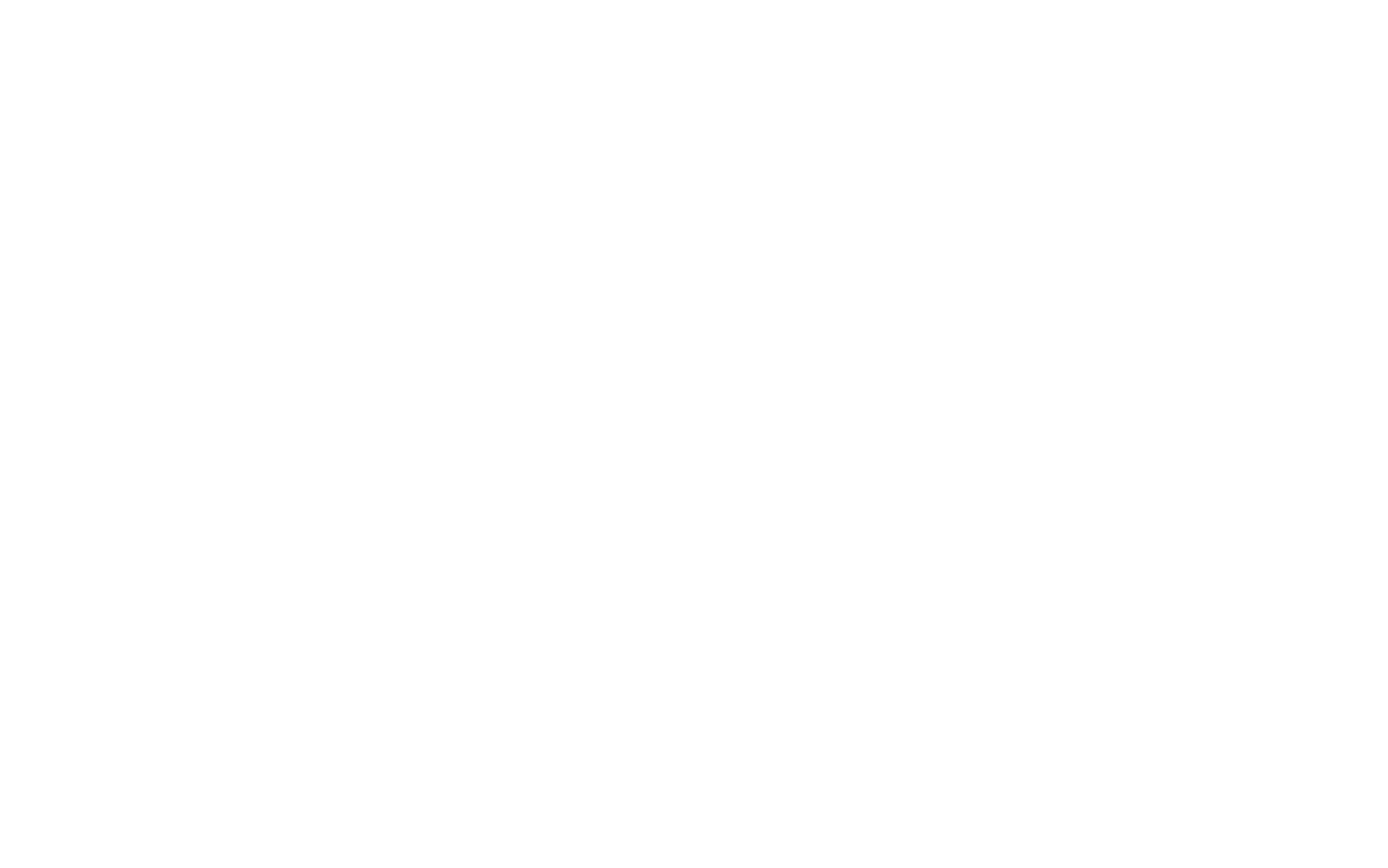
Ключевая особенность VOICES Performing Arts Festival в том, что здесь каждый раз представляются работы авторов, сменивших географический контекст. Сам же фестиваль связан с проблемами миграции и деколониальности.
В 2024 году куратором музыкального направления выступил композитор Сергей Невский, имеющий большой опыт кураторской работы в России. Составленная им программа была посвящена идентичности и переосмыслению себя в новом культурном контексте. В каком-то смысле и сам проект выглядел неожиданно для немецкого фестиваля новой музыки, ведь значительную часть программы составляли премьеры композиторов из Центральной Азии. Среди них — Санжар Байтереков, Сергей Ким, Айгерим Сеилова, Жамиля Жазылбекова, Баласагын Мусаев, Азиза Садыкова, Елена Рыкова, Петрос Овсепян.
Вместе с тем, фестиваль не выглядел локальным и изолированным. Среди его участников были художники, композиторы и исполнители разных культур. Многие из них работают с формами, медиумами и новыми технологиями, которые определяют глобальные тенденции современности.
Программа
В 2024 году куратором музыкального направления выступил композитор Сергей Невский, имеющий большой опыт кураторской работы в России. Составленная им программа была посвящена идентичности и переосмыслению себя в новом культурном контексте. В каком-то смысле и сам проект выглядел неожиданно для немецкого фестиваля новой музыки, ведь значительную часть программы составляли премьеры композиторов из Центральной Азии. Среди них — Санжар Байтереков, Сергей Ким, Айгерим Сеилова, Жамиля Жазылбекова, Баласагын Мусаев, Азиза Садыкова, Елена Рыкова, Петрос Овсепян.
Вместе с тем, фестиваль не выглядел локальным и изолированным. Среди его участников были художники, композиторы и исполнители разных культур. Многие из них работают с формами, медиумами и новыми технологиями, которые определяют глобальные тенденции современности.
Программа
21–30 марта 2025, Берлин (Германия)
MaerzMusik
MaerzMusik
Другой берлинский фестиваль современной музыки прошел в марте под художественным руководством Камилы Метвали. Тема MaerzMusik в 2025 году была связана с поиском новых форм сосуществования, преодолением границ между привычным и непривычным, классическим и постмодернистским, а также с реакцией на социополитические, культурные и экологические вызовы. Организаторы задавались вопросом: если настоящее ставит под сомнение старые формы, как можно создавать иначе, ориентируясь на будущее?
Программа фестиваля охватывала широкий спектр современной и экспериментальной музыки, междисциплинарных проектов и премьер, из которых трудно выбрать что-то одно для иллюстрации. Но хочется отметить мероприятие, выбранное для завершения фестиваля, — партиципаторный проект I AM ALL EARS с композициями Войтека Блехаржа, Кори Роуз Сума, Полин Оливерос и других авторов. Его идея заключалась в создании «музыки не для концертов» — такой музыки, которая предполагает непосредственное участие аудитории и обретение субъектности в исполнении.
Программа
Программа фестиваля охватывала широкий спектр современной и экспериментальной музыки, междисциплинарных проектов и премьер, из которых трудно выбрать что-то одно для иллюстрации. Но хочется отметить мероприятие, выбранное для завершения фестиваля, — партиципаторный проект I AM ALL EARS с композициями Войтека Блехаржа, Кори Роуз Сума, Полин Оливерос и других авторов. Его идея заключалась в создании «музыки не для концертов» — такой музыки, которая предполагает непосредственное участие аудитории и обретение субъектности в исполнении.
Программа
23 мая – 28 июня 2025, Париж (Франция)
ManiFeste
ManiFeste
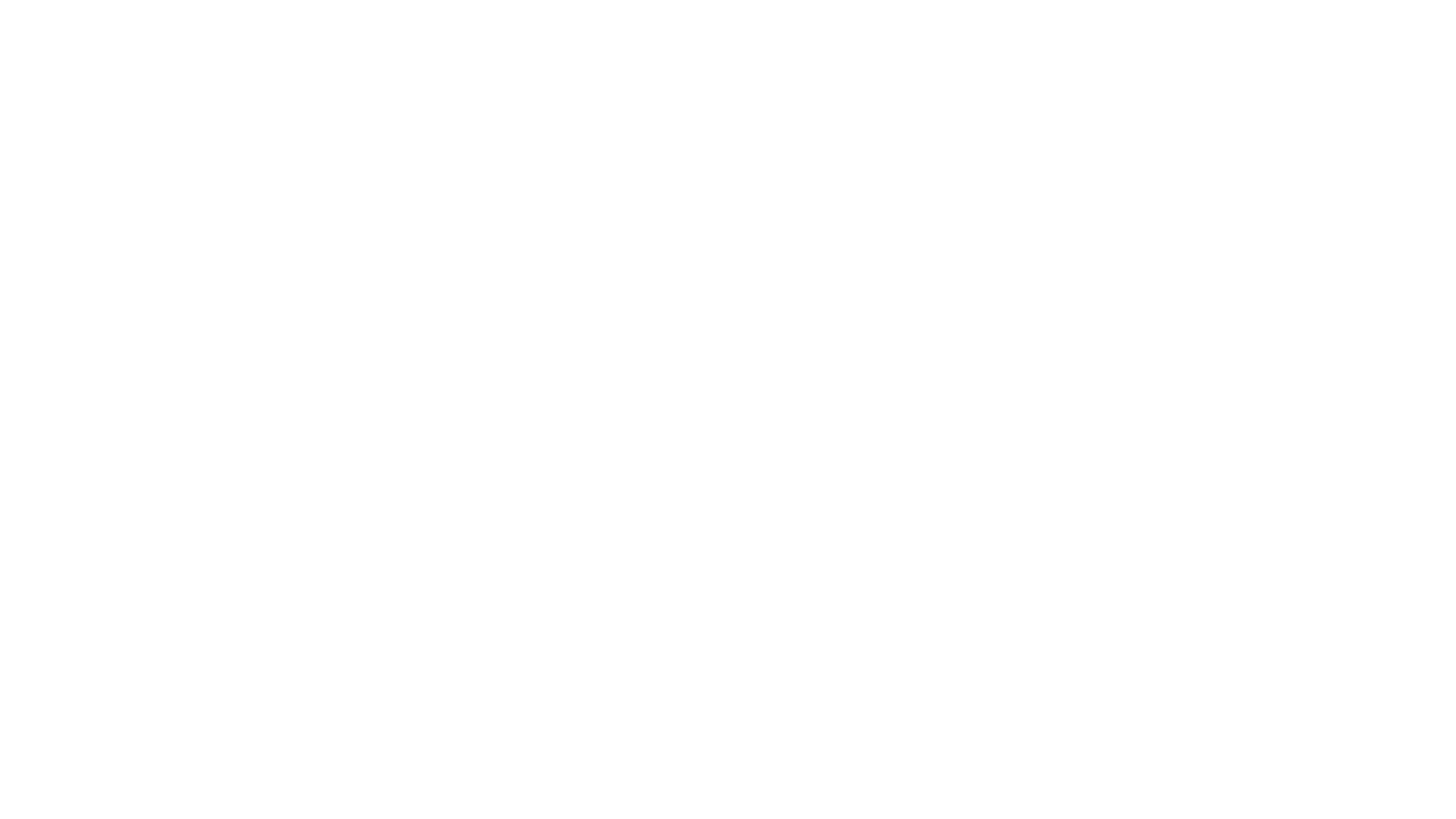
ManiFeste — ежегодный фестиваль, который организует Институт исследования и координации акустики/звука и музыки (IRCAM). Пожалуй, как и деятельность Института в целом, программа фестиваля этом году футуристична и основана на трех интуициях о будущем:
Программа ManiFeste 2025 создавалась командой приглашенных композиторов и артистов, среди которых ключевую роль играли итальянские авторы Лючия Ронкетти и Маттео Франческини. Ее ключевые черты — акцент на мировых премьерах и взаимодействии живого исполнительства и электроники, поддержка молодых композиторов и исполнителей на образовательных программах, сотрудничество с ведущими ансамблями и театральными коллективами мира.
Программа
- будущее не пишется — оно звучит,
- будущее не пишется — оно рассказывается,
- будущее не пишется — оно создается.
Программа ManiFeste 2025 создавалась командой приглашенных композиторов и артистов, среди которых ключевую роль играли итальянские авторы Лючия Ронкетти и Маттео Франческини. Ее ключевые черты — акцент на мировых премьерах и взаимодействии живого исполнительства и электроники, поддержка молодых композиторов и исполнителей на образовательных программах, сотрудничество с ведущими ансамблями и театральными коллективами мира.
Программа
11–14 июня 2025, Нью-Йорк (США)
MATA Festival
MATA Festival
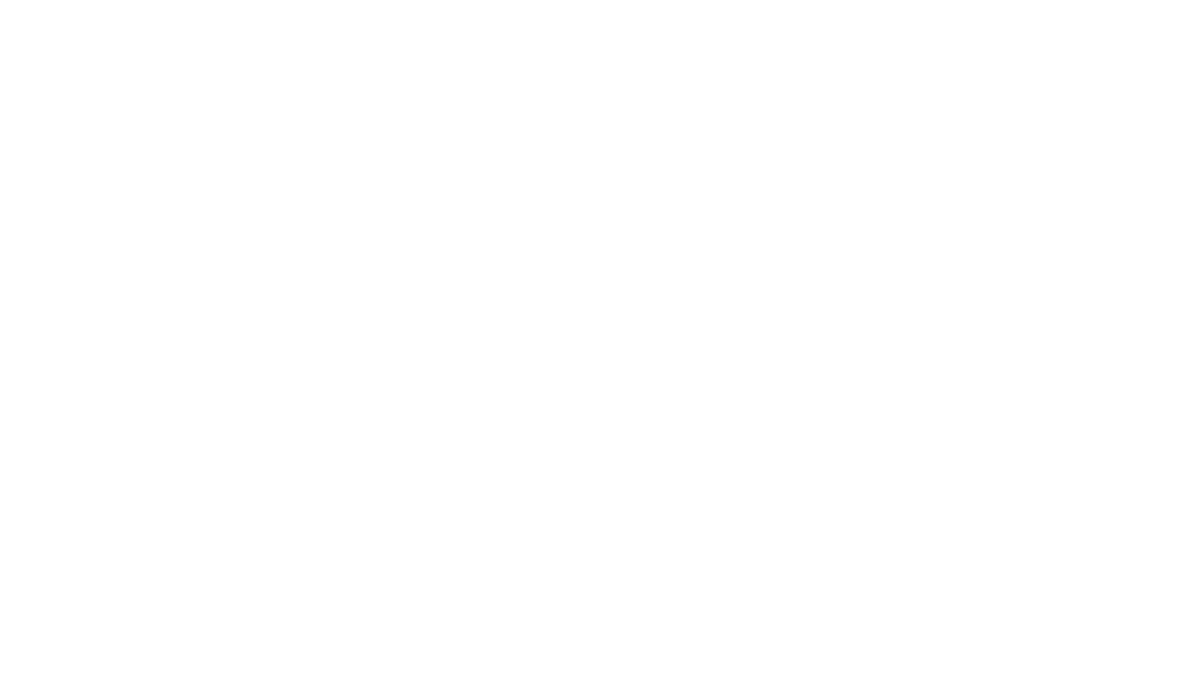
Фестиваль MATA (Music at the Anthology) основан композиторами Филипом Глассом, Лизой Белавой и Элеонор Сандрески и действует как платформа для молодых и независимых авторов, которым не хватает возможностей для презентации своих работ. Фестиваль известен своим открытым, недогматичным подходом к современной музыке. Его основной куратор — исполнительный директор Полин Ким Харрис.
Тема MATA Festival 2025 — «Интергалактическая бесконечность: музыка между пространствами». Фестиваль посвящен исследованию музыки как пространства для воображения, мистики, освобождения, научной фантастики, истории, фантазии и технокультуры. Также в фокусе внимания — культурные пересечения, связи с диаспорой и наследием.
Кажется, что американский фестиваль, обращаясь к тем же «серьезным» и глобальным темам, что и европейские фестивали, добавляет к этому нечто карнавальное и «комиксовое». К слову, открывают фестиваль Sun Ra Arkestra, харизма которых не оставляет в этом сомнений. И это очень обаятельная и жизнеутверждающая черта всего проекта.
Программа
Тема MATA Festival 2025 — «Интергалактическая бесконечность: музыка между пространствами». Фестиваль посвящен исследованию музыки как пространства для воображения, мистики, освобождения, научной фантастики, истории, фантазии и технокультуры. Также в фокусе внимания — культурные пересечения, связи с диаспорой и наследием.
Кажется, что американский фестиваль, обращаясь к тем же «серьезным» и глобальным темам, что и европейские фестивали, добавляет к этому нечто карнавальное и «комиксовое». К слову, открывают фестиваль Sun Ra Arkestra, харизма которых не оставляет в этом сомнений. И это очень обаятельная и жизнеутверждающая черта всего проекта.
Программа
Оперные фантомы, тревожные глитчи и бесплотный хор: как звучит новая музыка Тбилиси
ИВАн
нечаев
нечаев
Культурный обозреватель, исследователь современного искусства
В грузинской столице больше не пишут романсы о боли и почти не сочиняют симфонии. Здесь перемещают шум, строят звуковые лабиринты и пытаются разрешить звуку не извиняться за свою ненормальность — в Тбилиси активно формируется саунд-сцена, которая не просит легитимации у старых академий. Иван Нечаев послушал постоперы, архивные шорохи, эмбиентную лихорадку и нойз и предлагает познакомиться со средой, где композиторами называют диджеев, превращающих свои тревоги в электронные пульсации.
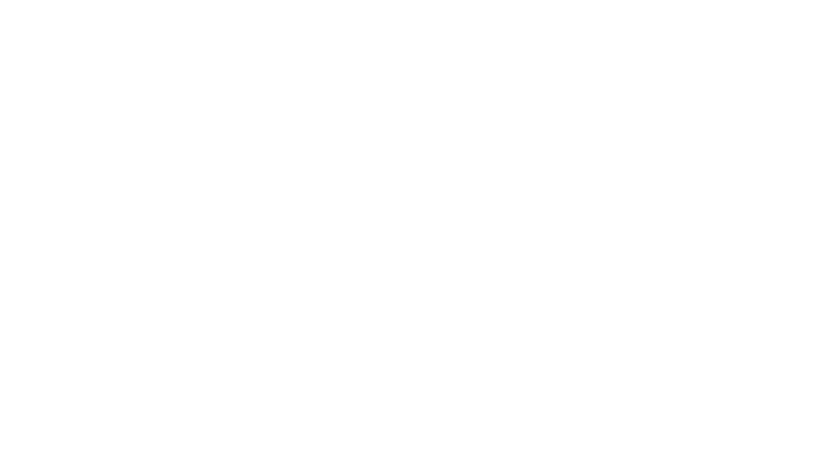
KHIDI Фото: Natia Taktakishvili
Что ты слышишь, когда едешь ночью по Тбилиси с опущенным стеклом? Скрип тормозов на проспекте Руставели? Бас, пульсирующий из задымленного клуба, расположенного под огромным стадионом? Или отчужденный голос на полудикой волне Mutant Radio, вещающей в пустоту, как будто тебе одному? Сегодня город общается через техно, эмбиент, нойз, голосовые петли, синтезаторы и открытые тела. Тбилиси больше не поет в унисон — он шипит, клокочет и разрывается на фрагменты. Да, многие тут выросли на Петре Чайковском и Гии Канчели, но теперь у города другие герои. Новая музыка Грузии делает то, что академическая сцена не всегда осмеливалась: разрушает и собирает заново. Она ближе к телу, к коже, к социальному гневу и к утопии. В ней господствуют эстетика уязвимости и бунтарская энергия.
На левом берегу Куры, где раньше цвели индустриальные мхи, сегодня расположен Left Bank — не просто клуб, а скорее убежище для тех, кто не желает следовать музыкальным или этическим канонам. Здесь можно услышать, как Ash Scholem склеивает в сете клочки распадающейся идентичности, а Memotech исследует цифровую экзистенцию при помощи фрактальных шумов. Но главное — это не звуки, а тела. Тела в танце, тела в трансе, тела, наконец получившие раскрепощение. Тбилиси через Left Bank говорит: «Да, у нас тоже есть будущее». Возможно, оно зазвучит как дрон-партитура для разбитого синта, но оно будет.
На левом берегу Куры, где раньше цвели индустриальные мхи, сегодня расположен Left Bank — не просто клуб, а скорее убежище для тех, кто не желает следовать музыкальным или этическим канонам. Здесь можно услышать, как Ash Scholem склеивает в сете клочки распадающейся идентичности, а Memotech исследует цифровую экзистенцию при помощи фрактальных шумов. Но главное — это не звуки, а тела. Тела в танце, тела в трансе, тела, наконец получившие раскрепощение. Тбилиси через Left Bank говорит: «Да, у нас тоже есть будущее». Возможно, оно зазвучит как дрон-партитура для разбитого синта, но оно будет.
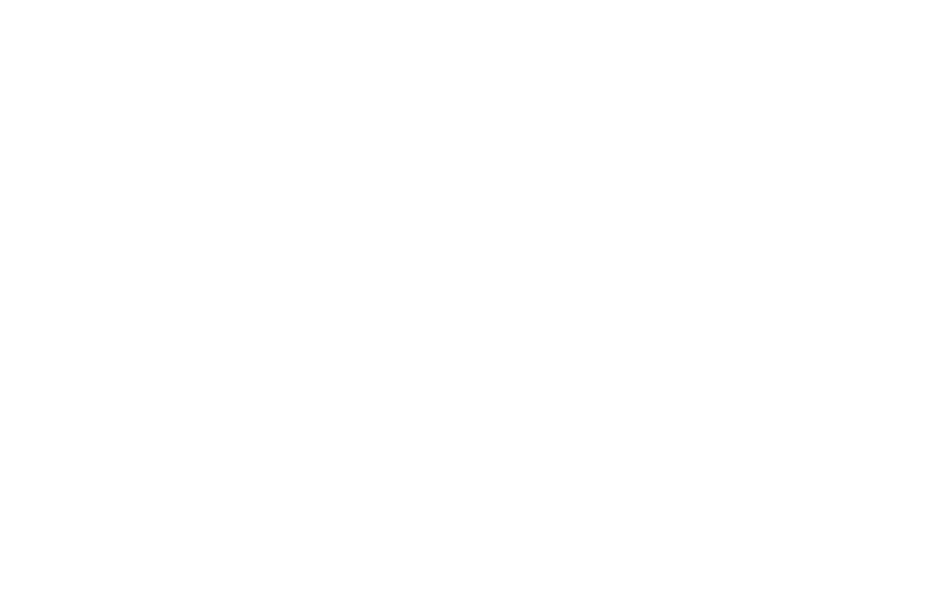
Left Bank Фото: Masu Mtsariashvili, Josh Feder
Mutant Radio — это грузинская версия философского радио Arto: немного дада, немного rave-поэзии и много звукопроизводящей нежности. Это саунд-студия на колесах, идущая в горы, во двор жилого массива или в Берлин. Это метафора того, как грузинская экспериментальная сцена отказывается стоять на месте. Здесь можно услышать dub-медитации, krautrock-блуждания, фольклорные выкрики из других времен. И тут же — spoken word с пубертатной яростью. Mutant Radio делает невозможное: собирает под одной антенной грубых парней из панк-подвала и хрупких девушек, поющих в режиме глитч-арт. Это центр звукового авангарда, от которого веет честностью.
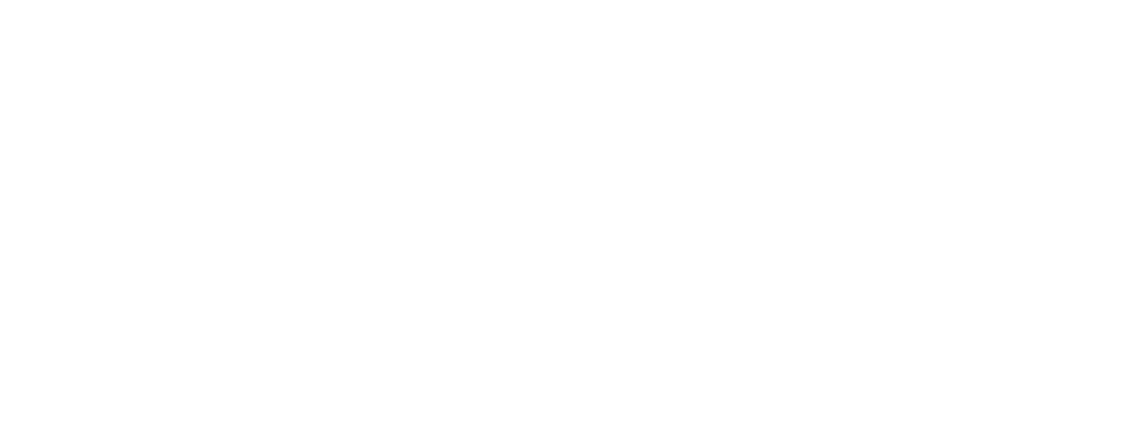
Mutant Radio Фото: https://www.mutantradio.net/about
Tbili Orgia — не просто название, а уже манифест. В этом клубе — самые жесткие сеты и самые длинные ночи. Здесь Bedina читает тексты, как будто вынимает лезвие из-под языка, а перформеры оперы Homo Freq превращают боль в ритм. Это место, где андерграунд пересекается с личной травмой — и никто не просит прощения за громкость. Слушатель здесь не наблюдатель. Он — соучастник. Никто не стоит перед сценой. Все стоят на ней.
KHIDI CLUB — это уже собор техно. Но даже он уступает собственной тени, проникающей на фестивали, где его сцена становится эпицентром звуковой агонии и экстаза. В темном, индустриальном нутре клуба слушаешь не музыку, а то, как распадается европейский проект и из его трещин ползет восточная энергия. KHIDI — это реплика Berghain (ночной техно-клуб в Берлине), но с грузинским оттенком: больше боли, больше смелости, меньше глянца.
KHIDI CLUB — это уже собор техно. Но даже он уступает собственной тени, проникающей на фестивали, где его сцена становится эпицентром звуковой агонии и экстаза. В темном, индустриальном нутре клуба слушаешь не музыку, а то, как распадается европейский проект и из его трещин ползет восточная энергия. KHIDI — это реплика Berghain (ночной техно-клуб в Берлине), но с грузинским оттенком: больше боли, больше смелости, меньше глянца.
Новая музыка в Тбилиси звучит и вне конкретных локаций. Популярность здесь набирают саунд-уоксы, где музыка — это маршрут. Проекты вроде City Sound Cartographyпредставляют карты звуковых маршрутов по городу, составленные композиторами и урбанистами. Ты идешь по холмистому району, слушаешь записи с перекрестков, скрипы из старого подъезда, гудки машин и вокал артистки, поющей из квартиры на последнем этаже. Это театр без сцены. И музыка без композиции.
Еще один тренд — работа с архивом как с перформативным телом. Чуть ли не на еженедельных ночных DJ-сетах можно услышать реконструированные полевые записи грузинского фольклора, обернутые в эмбиентную ткань и телесный жест. Перформеры двигаются как призраки, а записи предлагают впитать в себя чужие воспоминания и поработать с коллективной травмой через «звук, который был». Тут саунд становится уже не художественным средством, а телом культуры, которой больше нет, но которая все еще звучит.
Еще один тренд — работа с архивом как с перформативным телом. Чуть ли не на еженедельных ночных DJ-сетах можно услышать реконструированные полевые записи грузинского фольклора, обернутые в эмбиентную ткань и телесный жест. Перформеры двигаются как призраки, а записи предлагают впитать в себя чужие воспоминания и поработать с коллективной травмой через «звук, который был». Тут саунд становится уже не художественным средством, а телом культуры, которой больше нет, но которая все еще звучит.
Но кто же они — герои новой сцены, композиторы без кафедр? Тико Гогоберидзе — авангардная ведьма постсоветского попа. Ее проекты COUNTERSYNC, Holy Ostination и Homo Freq — это попытка сделать из звука и тела единый интерфейс. Она не пишет музыку. Она расписывает внутренние органы — визуально, звуково, концептуально. Ее работа всегда звучит как хоровой призыв к перерождению грузинской музыкальной парадигмы.
Еще одна знаковая фигура — Kordz, рэйвер с дипломом. Он может выдать техно-транс с оркестром, а потом написать пьесу в духе Сакамото. Он — грузинский ответ композиторам третьего пути, которые выросли на классицизме, но заигрались с лупами. Его звук — это попытка сделать из хаоса синтаксис. Если вам нужно лицо всей новой сцены Тбилиси — это он.
Гиорги Гигашвили — еще одно имя, которое сразу приходит на ум в разговоре о новой музыке Грузии. И это же имя сразу рисует образ пианиста, выдерживающего дуэт с Мартой Аргерих в лучших концертных залах. Гигашвили уже привлек внимание международной сцены, выиграв не один престижный конкурс. Но помимо своей классической карьеры, он также занимается электронной и экспериментальной музыкой. Его группа Tsduneba (что в переводе с грузинского означает «соблазн») сочетает в себе электро, экспериментальную музыку и традиционные грузинские песни. Его другой проект — Serious Music — с мультиинструменталистом Nikala продолжает исследовать пересечение классической музыки, поп-музыки, электро и хип-хопа, укрепляя его приверженность разрушению жанровых барьеров.
Еще одна знаковая фигура — Kordz, рэйвер с дипломом. Он может выдать техно-транс с оркестром, а потом написать пьесу в духе Сакамото. Он — грузинский ответ композиторам третьего пути, которые выросли на классицизме, но заигрались с лупами. Его звук — это попытка сделать из хаоса синтаксис. Если вам нужно лицо всей новой сцены Тбилиси — это он.
Гиорги Гигашвили — еще одно имя, которое сразу приходит на ум в разговоре о новой музыке Грузии. И это же имя сразу рисует образ пианиста, выдерживающего дуэт с Мартой Аргерих в лучших концертных залах. Гигашвили уже привлек внимание международной сцены, выиграв не один престижный конкурс. Но помимо своей классической карьеры, он также занимается электронной и экспериментальной музыкой. Его группа Tsduneba (что в переводе с грузинского означает «соблазн») сочетает в себе электро, экспериментальную музыку и традиционные грузинские песни. Его другой проект — Serious Music — с мультиинструменталистом Nikala продолжает исследовать пересечение классической музыки, поп-музыки, электро и хип-хопа, укрепляя его приверженность разрушению жанровых барьеров.
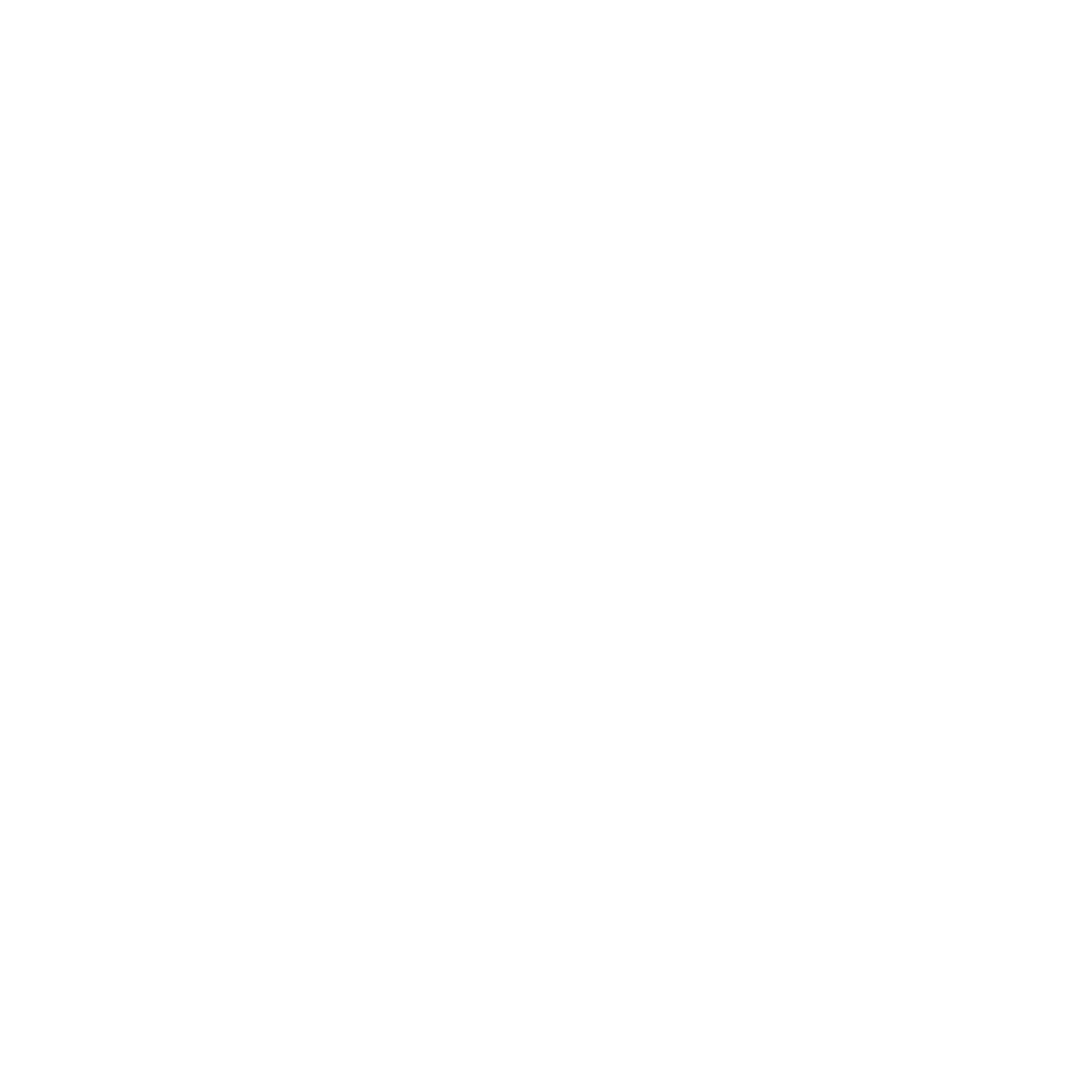
Tsduneba
Если классическая опера — это культ голоса, то оперный проект Homo Freq, регулярно звучащий в разных клубных пространствах, — это его убийство. Точнее, вскрытие. Вместо либретто — фрагменты, крики, текстуры. Эта «постопера» не разворачивается — она распадается. Драма заменена гортанными коррозиями, вокал выжжен фрикативами, вместо тембра — аура. В антигуманистском веке Homo Freq создают утопию постчеловеческого вокального тела. Ни любви, ни смерти — только вибрации в сухожилиях. Если Апергис писал о голосе как о крике цивилизации, то Homo Freq показывают, как этот крик переходит в белый шум и остается висеть в воздухе, словно завывание призрака.
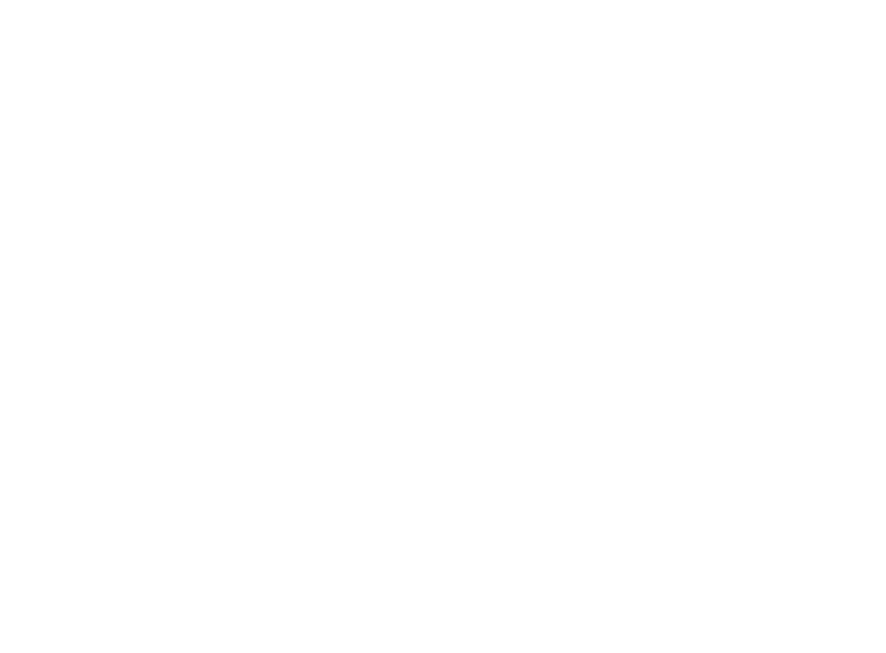
Homo Freq
Сборник Sleepers, Poets, Scientists, собранный на лейбле CES Records, — проект, инициированный Натали Беридзе. Это саунд-академия, в которой студенты не учатся «писать музыку», а исследуют звучание их внутреннего вируса. В сборнике — эмбиент, статика, глитч, тревожная тишина, бипы и фрагменты мыслей. Сборник звучит так, будто Консерватория взорвалась, а ее звуки кто-то попытался собрать заново из битых семплов и советского синтезатора.
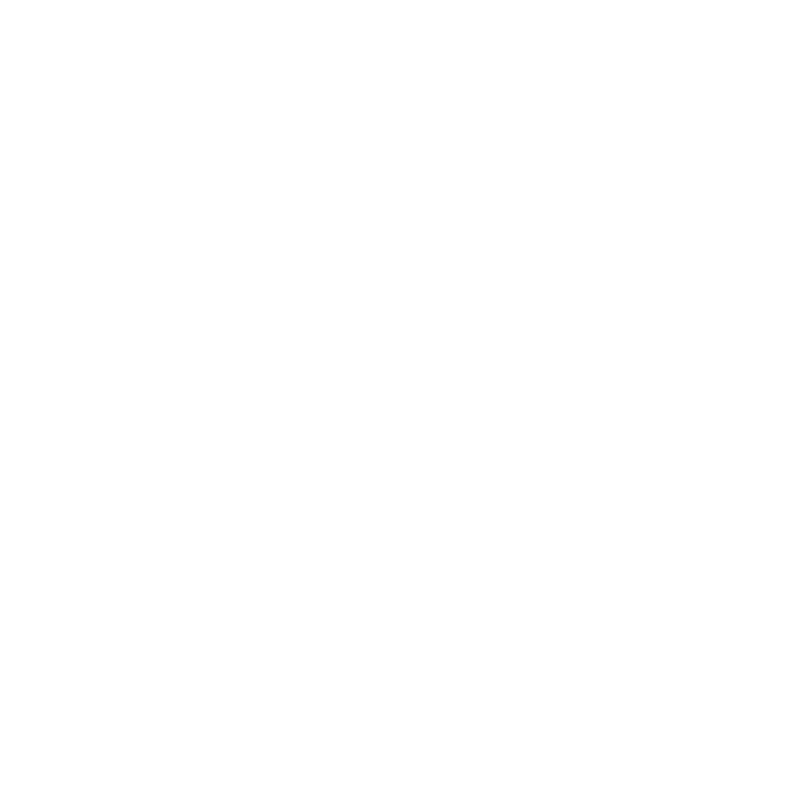
Sleepers Poets Scientists
Гиорги Коберидзе и Лука Накашидзе в проекте AWWWARA превращают фольклор в текстуру. Если Гия Канчели — это тоска по утраченной глубине, то AWWWARA — резкое пробуждение в заброшенной деревне с диктофоном в руке и рассеченным сэмплом в ушах. Проект собирает звуки народных песен, но фольклор не цитируется, а мумифицируется — и потом оживает через луп и искажение. При этом — никакого звукового архива. Только сырой материал, только тень напева. AWWWARA работает не с тем, что звучит, а с тем, что было уничтожено звуком. Это фольклор без этнографии, этнос без героя, архетип без мифа.
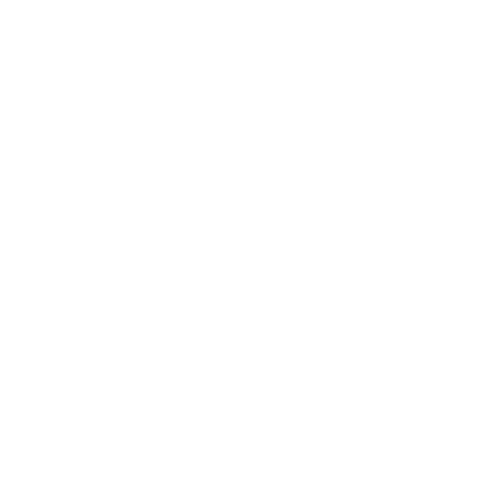
AWWWARA
Уже упомянутого исполнителя под ником Kordz нельзя назвать просто техно-композитором. Он — архитектор разломов. Его проект с Тбилисским молодежным оркестром Intro, представленный в Театре Руставели, — это саундтрек к распаду жанров. Kordz берет оркестр и обращает его в EDM-секцию. Звучит не музыка, а трансмутация: академическая ткань разлетается под давлением клубной звуковой гравитации. Слушатели больше не в зале, а в пространстве, где дирижер — это диджей, а партитура — это последовательность эмоциональных всплесков. И главное — никакой иерархии.
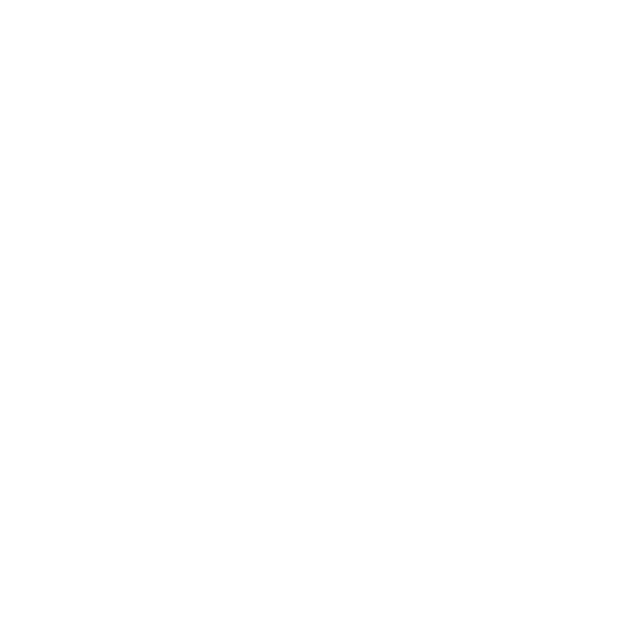
Kordz
Сборник Place: Georgia, собранный Сандро Мезурнишвили, — это звуковая карта страны, переживающей культурный шок. Здесь политический хаос звучит как дрон, а личная нестабильность — как рассыпчатое техно. Это не плейлист, а манифест: никакой стабильности, только звук и его дрожащая граница. Слушать — все равно что снимать гипсовый слепок с национального тела.
Наконец, фестиваль Close Encounters — эдакий магнит для экспатов. Каждый раз в программе глобальный саунд сталкивается с локальным телом. И это столкновение всегда оставляет шрамы. Здесь звучат польский нойз, берлинский авангард и грузинский голос, который не поет, а рычит, хрипит, рвется наружу. Это фестиваль для тех, кто хочет слышать боль, а не оформлять ее в эстетические рамки.
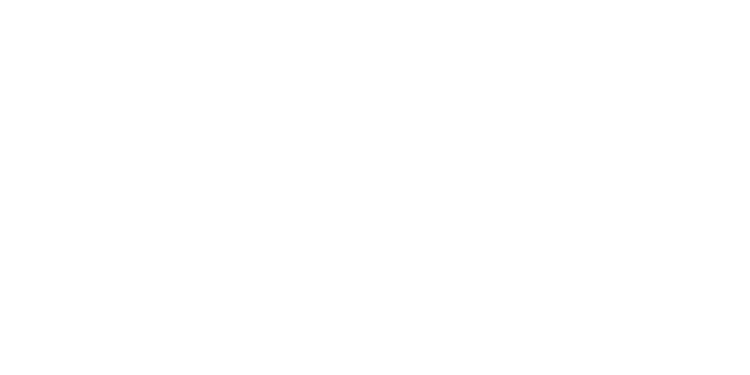
Close Encounters
Ника Мачаидзе (Nikakoi), Натали Беридзе (TBA), Сандро Чинчаладзе (TeTe Noise), Анушка Чхеидзе, Гиорги Гигашвили — все это имена, которым в Грузии верят больше, чем институциям. Их звук — это заявление. Их треки — это разминирование памяти. Когда Анушка запускает эмбиент, негде укрыться от всепроникающей тревоги. Когда Гигашвили выступает как BBC New Generation Artist, он выносит из зала не славу, а доказательство: грузинский авангард жив, несмотря на всю административную трясину. У новой тбилисской сцены нет единых форм, нет общего манифеста, нет иерархий. Но есть одно: они перестали бояться быть некрасивыми, незавершенными, нечеткими. В этом — их этика. Они больше не пытаются оправдать свои звуки академией, а наоборот — академия сама трескается под их миксами. Это музыка без рамы, но с телом. Без сцены, но с жестом. Это саунд нового состояния — неуверенного, тревожного, но предельно живого.
«Посвятив себя главному и наивысшему»
илья
овчинников
овчинников
Музыкальный критик, работал выпускающим редактором интернет-издания «Русский журнал», музыкальным обозревателем ежедневной «Газеты». Постоянный автор изданий «Музыкальная жизнь», «КоммерсантЪ» и других. Опубликовал более 200 интервью c крупнейшими музыкантами современности; избранные беседы вошли в книгу «За музыкою только дело». Соавтор книг Льва Маркиза, Владимира Крайнева, Дмитрия Ситковецкого. С 2016 года работает в Московской филармонии.
В марте нынешнего года не стало Софии Губайдулиной — одного из последних бесспорно великих композиторов нашего времени. Когда-то ее имя было принято называть в числе представителей «московской тройки» наряду с Денисовым и Шнитке; почти полвека спустя их различия все виднее. В отличие от Шнитке, у Денисова и Губайдулиной нет общепризнанной «визитной карточки» — нет своей «Сюиты в старинном стиле», темы из «Сказки странствий» или Concerto grosso No. 1: с ними в этом смысле нельзя сравнить ни «Солнце инков» или «Пену дней» Денисова, ни «Семь слов», музыку из «Маугли» или Offertorium Губайдулиной. При всем разнообразии наследия Шнитке значительная его часть отмечена набором типических черт и интонационных приемов, позволяющих мгновенно узнать автора: будь то сочетание клавесина с бас-гитарой, атмосфера «панихиды с танцами» или барочная квазицитата, которую стремительно сменяет диссонанс.
В случае Денисова и особенно Губайдулиной определить эти черты сложнее, тем более что в большинстве сочинений Губайдулина, подобно Стравинскому, изобретала заново и форму, и жанр, и инструментальный состав. Таков уже первый ее зрелый опус — Пять этюдов, появившиеся 60 лет назад, но и сегодня звучащие абсолютно свежо. «Когда меня спрашивают о времени моего рождения как композитора, отвечаю: 1965 год — Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных. Здесь я уже угадывала себя. Я очень поздний, осенний плод», — рассказывала Губайдулина в интервью итальянскому музыковеду Энцо Рестаньо в 1991 году.
Ниже — несколько слов о шести ее произведениях разных лет, выбранных абсолютно субъективно. Что неожиданно, из них как минимум каждое второе так или иначе ассоциируется с Шостаковичем — казалось бы, из «московской тройки» к нему ближе Шнитке. В отличие от Денисова, Губайдулина всегда отзывалась о Шостаковиче уважительно: «Иногда человек произнесет лишь одно слово, но оно оказывается определяющим и освещает дорогу всей дальнейшей жизни, — говорила она в том же интервью. — Никогда не забуду момент, когда он сказал мне: "Я желаю Вам идти Вашим "неправильным" путем". С тех пор я испытываю к нему бесконечную благодарность». От вселенной Шостаковича открытые ею миры, на первый взгляд, кажутся очень далекими, однако при близком рассмотрении это выглядит иначе. В одном же из последних сочинений Губайдулиной, созданном на пороге 90-летия, — «Гневе Божьем» для оркестра — влияния Шостаковича не заметить невозможно. Светлая им память.
В случае Денисова и особенно Губайдулиной определить эти черты сложнее, тем более что в большинстве сочинений Губайдулина, подобно Стравинскому, изобретала заново и форму, и жанр, и инструментальный состав. Таков уже первый ее зрелый опус — Пять этюдов, появившиеся 60 лет назад, но и сегодня звучащие абсолютно свежо. «Когда меня спрашивают о времени моего рождения как композитора, отвечаю: 1965 год — Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных. Здесь я уже угадывала себя. Я очень поздний, осенний плод», — рассказывала Губайдулина в интервью итальянскому музыковеду Энцо Рестаньо в 1991 году.
Ниже — несколько слов о шести ее произведениях разных лет, выбранных абсолютно субъективно. Что неожиданно, из них как минимум каждое второе так или иначе ассоциируется с Шостаковичем — казалось бы, из «московской тройки» к нему ближе Шнитке. В отличие от Денисова, Губайдулина всегда отзывалась о Шостаковиче уважительно: «Иногда человек произнесет лишь одно слово, но оно оказывается определяющим и освещает дорогу всей дальнейшей жизни, — говорила она в том же интервью. — Никогда не забуду момент, когда он сказал мне: "Я желаю Вам идти Вашим "неправильным" путем". С тех пор я испытываю к нему бесконечную благодарность». От вселенной Шостаковича открытые ею миры, на первый взгляд, кажутся очень далекими, однако при близком рассмотрении это выглядит иначе. В одном же из последних сочинений Губайдулиной, созданном на пороге 90-летия, — «Гневе Божьем» для оркестра — влияния Шостаковича не заметить невозможно. Светлая им память.
Композиторы студии электронной музыки (конец 1960-х годов). Стоят: Э. Артемьев, А. Шнитке, А. Немтин, Э. Денисов. Сидят: О. Булошкин, С. Губайдулина, С. Крейчи.
София Губайдулина и Эдисон Денисов (1981 год)
К моменту появления Пяти этюдов Губайдулиной было немногим больше тридцати. На ее счету — ряд сочинений, позже не включенных автором в каталог, хотя и высоко оцененных современниками. Плюс еще несколько исполняющихся до сих пор: Соната и Чакона для фортепиано, Фортепианный квинтет — яркие, зрелые, мастеровитые произведения, доставляющие радость и музыкантам, и слушателям. По мнению Валентины Холоповой, «Чакона для фортепиано (1962), а затем Фортепианная соната (1965), в которой Губайдулина применила и додекафонию, и новые приемы звукоизвлечения, показывают и освоение традиций первой половины XX века (Шостаковича, Хиндемита, Стравинского), и их преодоление».
Пять этюдов созданы в том же 1965 году, что и Соната, и тем не менее именно они знаменуют водораздел между ранней и зрелой Губайдулиной. Трудно представить себе, как сочинение восприняли современники, притом что ему повезло и с первым публичным исполнением, и с изданием в «Советском композиторе». Сегодня Пять этюдов поражают и свежестью, и лаконизмом, и тем, насколько непохож на другие опусы Губайдулиной цикл миниатюр от полутора до трех минут длиной. Не то чтобы они совсем свободны от каких бы то ни было влияний — сама форма не может не напомнить Веберна, хотя в его пьесах едва ли возможны элементы джаза, которые присутствуют здесь, не говоря уже о подобии блюза, завершающем цикл. Даже странно, что первые записи Пяти этюдов появились только в последние годы.
Как и в более продолжительных сочинениях Губайдулиной, в Пяти этюдах — невероятная концентрация музыкальных событий на единицу времени. Кружева, которые вместе плетут арфа и маримба, — в первом. Почти джазовое пиццикато контрабаса, пока арфа и ударные играют как бы сами по себе, с элементами алеаторики, — во втором. Сумрачный третий этюд пронизывает «короткая фраза из шести звуков», как скромно называет ее Холопова; при этом пять звуков из шести в точности повторяют, пусть и в другой тональности, первую фразу Десятой симфонии Шостаковича — едва ли случайно. Не меньшим сюрпризом предстает четвертый, своеобразное скерцо, в начале которого впору пуститься в пляс. Наконец, пятый, полностью построенный на ритмичном пиццикато контрабаса: партия основана на двенадцатитоновой серии, но интонационно это практически блюз, что вряд ли имел в виду автор, — тем удивительнее результат.
Пять этюдов созданы в том же 1965 году, что и Соната, и тем не менее именно они знаменуют водораздел между ранней и зрелой Губайдулиной. Трудно представить себе, как сочинение восприняли современники, притом что ему повезло и с первым публичным исполнением, и с изданием в «Советском композиторе». Сегодня Пять этюдов поражают и свежестью, и лаконизмом, и тем, насколько непохож на другие опусы Губайдулиной цикл миниатюр от полутора до трех минут длиной. Не то чтобы они совсем свободны от каких бы то ни было влияний — сама форма не может не напомнить Веберна, хотя в его пьесах едва ли возможны элементы джаза, которые присутствуют здесь, не говоря уже о подобии блюза, завершающем цикл. Даже странно, что первые записи Пяти этюдов появились только в последние годы.
Как и в более продолжительных сочинениях Губайдулиной, в Пяти этюдах — невероятная концентрация музыкальных событий на единицу времени. Кружева, которые вместе плетут арфа и маримба, — в первом. Почти джазовое пиццикато контрабаса, пока арфа и ударные играют как бы сами по себе, с элементами алеаторики, — во втором. Сумрачный третий этюд пронизывает «короткая фраза из шести звуков», как скромно называет ее Холопова; при этом пять звуков из шести в точности повторяют, пусть и в другой тональности, первую фразу Десятой симфонии Шостаковича — едва ли случайно. Не меньшим сюрпризом предстает четвертый, своеобразное скерцо, в начале которого впору пуститься в пляс. Наконец, пятый, полностью построенный на ритмичном пиццикато контрабаса: партия основана на двенадцатитоновой серии, но интонационно это практически блюз, что вряд ли имел в виду автор, — тем удивительнее результат.
София Губайдулина в зале Казанского музыкального училища (1948 год). Фото — Центр современной музыки Софии Губайдулиной
София Губайдулина с профессором Григорием Коганом в Казанской консерватории
Кантата «Ночь в Мемфисе» для меццо-сопрано, мужского хора и оркестра на древнеегипетские тексты (1968)
https://youtu.be/8Scv1OiHI1s
https://youtu.be/8Scv1OiHI1s
Не менее удивительно то, как из Пятого этюда вырос финал «Ночи в Мемфисе». На первый взгляд, между двумя сочинениями мало общего: в первом случае — сдержанность, лаконичность выразительных средств и хронометража, ассоциирующиеся с Веберном; во втором — протяженность, богатый состав оркестра с большой группой ударных, мандолиной, арфой, фортепиано, органом плюс солистка и хор, высокий градус эмоций, что ближе к вокальным симфониям Малера и Шостаковича. Тем не менее, финал кантаты, где, по словам Светланы Савенко, «в контрабасовом остинато додекафонная серия тонко переплетена со стилистикой cool jazz», — словно ремейк Пятого этюда, который автор расширил по времени и по составу, добавив вокал и ряд соло в оркестре.
Более того: между рождением одного и другого сочинений Губайдулиной состоялась премьера Второго фортепианного концерта Родиона Щедрина, где также соединялись элементы додекафонии и джаза. Мало что общего между двумя композиторами, еще меньше — между названными произведениями, и тем не менее в духе времени оба уловили нечто общее, воплотив это сугубо индивидуально. А меньше чем через год после «Ночи в Мемфисе», которая еще не была исполнена и ее не мог слышать Шостакович, появляется его Четырнадцатая симфония. Оба сочинения по-своему наследуют малеровской «Песне о земле» — и как образцы жанра симфонии-кантаты, и как размышления о смерти.
В этом смысле не так удивляет, когда в четвертой части «Ночи в Мемфисе» — «Кому мне открыться сегодня» — вдруг возникают краски и интонации «Песни о земле», например, звон мандолины, как в ее четвертой же части. Удивительнее то, как в кантате Губайдулиной предвосхищается предпоследняя симфония Шостаковича: да, «Ночь в Мемфисе» построена на двенадцатитоновой технике, которую в эти же годы применял и Шостакович, но речь в первую очередь о близости образной. Так, с каноном из части «В тюрьме Санте», исполняемым струнными col legno, поразительно схожа третья, также инструментальная часть «Ночи в Мемфисе», один из сильнейших эпизодов кантаты. Еще об одном, финальном, уже шла речь, и еще один, наиболее впечатляющий — оркестровое вступление к пятой части: скачок скрипок на нону вверх — то ли крик о помощи, то ли молитва. К ним присоединяются другие струнные, их перебивает фортепиано, словно импровизируя и затем сливаясь с оркестром, благодаря чему рождается подлинное просветление.
Более того: между рождением одного и другого сочинений Губайдулиной состоялась премьера Второго фортепианного концерта Родиона Щедрина, где также соединялись элементы додекафонии и джаза. Мало что общего между двумя композиторами, еще меньше — между названными произведениями, и тем не менее в духе времени оба уловили нечто общее, воплотив это сугубо индивидуально. А меньше чем через год после «Ночи в Мемфисе», которая еще не была исполнена и ее не мог слышать Шостакович, появляется его Четырнадцатая симфония. Оба сочинения по-своему наследуют малеровской «Песне о земле» — и как образцы жанра симфонии-кантаты, и как размышления о смерти.
В этом смысле не так удивляет, когда в четвертой части «Ночи в Мемфисе» — «Кому мне открыться сегодня» — вдруг возникают краски и интонации «Песни о земле», например, звон мандолины, как в ее четвертой же части. Удивительнее то, как в кантате Губайдулиной предвосхищается предпоследняя симфония Шостаковича: да, «Ночь в Мемфисе» построена на двенадцатитоновой технике, которую в эти же годы применял и Шостакович, но речь в первую очередь о близости образной. Так, с каноном из части «В тюрьме Санте», исполняемым струнными col legno, поразительно схожа третья, также инструментальная часть «Ночи в Мемфисе», один из сильнейших эпизодов кантаты. Еще об одном, финальном, уже шла речь, и еще один, наиболее впечатляющий — оркестровое вступление к пятой части: скачок скрипок на нону вверх — то ли крик о помощи, то ли молитва. К ним присоединяются другие струнные, их перебивает фортепиано, словно импровизируя и затем сливаясь с оркестром, благодаря чему рождается подлинное просветление.
София Губайдулина в НИИ «Прометей» (1989 год). Фото — Центр современной музыки Софии Губайдулиной
Один из многих примеров того, как Губайдулина творила неслыханные прежде звуковые миры. В 2008 году в интервью автору этих строк она рассказывала о своем новейшем сочинении: «Ravvedimento для виолончели и квартета гитар написано для Ивана Монигетти, посвящено ему и замечательно им исполнено. Там играет квартет из четырех разных гитар. Среди них следует выделить шестиструнную, к которой присоединены еще семь струн в диатоническом порядке, то есть она захватывает еще и контрабасовый регистр… мне рассказали, что в Санкт-Галлене есть квартет гитар, специально заказавший такую, и я нашла время написать сочинение для гитарного квартета. Тогда этот инструмент был единственным в мире, его делали целый год... теперь на свете их два».
По-видимому, ввиду чрезвычайной редкости 13-струнной гитары Губайдулина вскоре подготовила еще две версии сочинения: Pentimento для трех гитар и контрабаса и затем Repentance для виолончели, трех гитар и контрабаса. Последняя, вероятно, наиболее практична — по крайней мере, у нее уже две студийные записи. Все три варианта названия можно перевести как «раскаяние», что объясняется куда проще, чем можно себе представить: по словам композитора, сочинение было готово гораздо позже обещанного срока, и заголовок говорит о сожалении автора — не более. Раньше Губайдулина не писала для гитары (за исключением двух миниатюр 1971 года), и Repentance в любом из своих обличий не похожа ни на одно ее сочинение. Это действительно новый звуковой мир, о чем говорят и исполнители, например, гитарист Дэвид Таненбаум, на счету которого множество премьер с самыми разными новаторскими приемами игры.
Если пьеса что и напоминает, то скорее эксперименты основателя группы King Crimson, гитариста Роберта Фриппа с его коллективом The League of Crafty Guitarists. Разумеется, таковы лишь некоторые ее эпизоды, ведь здесь есть не только гитары, играющие то в академической манере, то в прог-роковой, то в потусторонней, которую не описать словами: виолончель может то перебить их, то слиться с ними в экстазе, заиграв колыбельную, чьи интонации узнаются безошибочно, только заснуть от нее невозможно. Контрабас может обиженно напомнить о себе — и вдруг сыграть фразу такой красоты, что остальные ненадолго остановятся перевести дух. Сочинение оставляет ощущение настоящего волшебства, хотя и не всегда доброго; позже Губайдулина вернулась к схожему сочетанию инструментов, создав в 2010-м произведение Sotto voce для альта, контрабаса и двух гитар.
По-видимому, ввиду чрезвычайной редкости 13-струнной гитары Губайдулина вскоре подготовила еще две версии сочинения: Pentimento для трех гитар и контрабаса и затем Repentance для виолончели, трех гитар и контрабаса. Последняя, вероятно, наиболее практична — по крайней мере, у нее уже две студийные записи. Все три варианта названия можно перевести как «раскаяние», что объясняется куда проще, чем можно себе представить: по словам композитора, сочинение было готово гораздо позже обещанного срока, и заголовок говорит о сожалении автора — не более. Раньше Губайдулина не писала для гитары (за исключением двух миниатюр 1971 года), и Repentance в любом из своих обличий не похожа ни на одно ее сочинение. Это действительно новый звуковой мир, о чем говорят и исполнители, например, гитарист Дэвид Таненбаум, на счету которого множество премьер с самыми разными новаторскими приемами игры.
Если пьеса что и напоминает, то скорее эксперименты основателя группы King Crimson, гитариста Роберта Фриппа с его коллективом The League of Crafty Guitarists. Разумеется, таковы лишь некоторые ее эпизоды, ведь здесь есть не только гитары, играющие то в академической манере, то в прог-роковой, то в потусторонней, которую не описать словами: виолончель может то перебить их, то слиться с ними в экстазе, заиграв колыбельную, чьи интонации узнаются безошибочно, только заснуть от нее невозможно. Контрабас может обиженно напомнить о себе — и вдруг сыграть фразу такой красоты, что остальные ненадолго остановятся перевести дух. Сочинение оставляет ощущение настоящего волшебства, хотя и не всегда доброго; позже Губайдулина вернулась к схожему сочетанию инструментов, создав в 2010-м произведение Sotto voce для альта, контрабаса и двух гитар.
София Губайдулина и Джон Кейдж
София Губайдулина и Валентина Холопова
В 2007 году Губайдулина завершила концерт для скрипки с оркестром In tempus praesens, присвоив ему номер 2 (номер 1 получил Offertorium). Годом раньше появилось сочинение «Лира Орфея» для скрипки, струнных и ударных, которому и было бы естественно называться скрипичным концертом под соответствующим номером, — но нет. Почему Губайдулина приняла такое решение? «Лира» наряду с двумя другими сочинениями включена в триптих «Надейка», посвященный умершей дочери композитора; возможно, Губайдулиной было важнее обозначить «Лиру» именно как часть этого приношения, лишив неизбежных коннотаций, связанных с жанром скрипичного концерта?
Как бы то ни было, при первом прослушивании «Лира Орфея» может показаться полной светлой печали поэмой, движение которой развивается плавно, практически бесконфликтно, а драма скрыта глубоко внутри. Эти свойства сочинения отмечены и в рецензиях на запись, сделанную Гидоном Кремером и ансамблем Kremerata Baltica вскоре после мировой премьеры. Лишь при более близком знакомстве обнаруживаются и драма, и конфликт, и родовое свойство концертов Губайдулиной, отмеченное Валентиной Холоповой: «Инструментальный концерт, не переставая быть музыкальным произведением... превращается в настоящую театральную драму на концертной эстраде». В этом смысле «Лира Орфея» — выдающийся скрипичный концерт, по-своему не менее яркий, нежели Offertorium. В аннотации Губайдулина подробно пишет о математических выкладках, лежащих в основе сочинения; после этого естественно ждать от музыки как минимум шенберговской строгости.
Вместо этого начинается одно из самых лирических сочинений Губайдулиной, во время звучания которого слово «красота» приходит в голову как никогда часто. Поначалу партия скрипки строится из плавных, почти лишенных диссонансов фраз, временами ей отвечает виолончель; что не слишком типично для концепций Губайдулиной, в их диалоге нет конфликта — напротив, их взаимопонимание только растет. Все решительнее заявляют о себе ударные — гремит барабанная дробь, звенят металлофон, трубчатые колокола и тарелки; объем звучания постепенно приближается к симфоническому, а эмоциональный градус становится все выше. Следует оглушительный удар тамтама и, едва струнные успевают вздохнуть, ударные отвечают буквально расстрельными залпами — трудно не вспомнить «9 января» из симфонии «1905 год» Шостаковича. После паузы как будто из последних сил вступают скрипка и струнные — но их снова поглотит гром литавр, и драма повторится еще раз, пусть даже и не буквально. После ударов тамтама остаются только руины, над которыми тихо звенит металлофон.
Как бы то ни было, при первом прослушивании «Лира Орфея» может показаться полной светлой печали поэмой, движение которой развивается плавно, практически бесконфликтно, а драма скрыта глубоко внутри. Эти свойства сочинения отмечены и в рецензиях на запись, сделанную Гидоном Кремером и ансамблем Kremerata Baltica вскоре после мировой премьеры. Лишь при более близком знакомстве обнаруживаются и драма, и конфликт, и родовое свойство концертов Губайдулиной, отмеченное Валентиной Холоповой: «Инструментальный концерт, не переставая быть музыкальным произведением... превращается в настоящую театральную драму на концертной эстраде». В этом смысле «Лира Орфея» — выдающийся скрипичный концерт, по-своему не менее яркий, нежели Offertorium. В аннотации Губайдулина подробно пишет о математических выкладках, лежащих в основе сочинения; после этого естественно ждать от музыки как минимум шенберговской строгости.
Вместо этого начинается одно из самых лирических сочинений Губайдулиной, во время звучания которого слово «красота» приходит в голову как никогда часто. Поначалу партия скрипки строится из плавных, почти лишенных диссонансов фраз, временами ей отвечает виолончель; что не слишком типично для концепций Губайдулиной, в их диалоге нет конфликта — напротив, их взаимопонимание только растет. Все решительнее заявляют о себе ударные — гремит барабанная дробь, звенят металлофон, трубчатые колокола и тарелки; объем звучания постепенно приближается к симфоническому, а эмоциональный градус становится все выше. Следует оглушительный удар тамтама и, едва струнные успевают вздохнуть, ударные отвечают буквально расстрельными залпами — трудно не вспомнить «9 января» из симфонии «1905 год» Шостаковича. После паузы как будто из последних сил вступают скрипка и струнные — но их снова поглотит гром литавр, и драма повторится еще раз, пусть даже и не буквально. После ударов тамтама остаются только руины, над которыми тихо звенит металлофон.
«Две тропы (посвящение Марии и Марфе)», концерт для двух альтов и оркестра (1998)
https://youtu.be/hZ4GWk-NnrI
https://youtu.be/hZ4GWk-NnrI
Risonanza для трех труб, четырех тромбонов, органа и шести струнных инструментов (2001)
https://youtu.be/HOwSmvpO8Rw
https://youtu.be/HOwSmvpO8Rw
К жанру инструментального театра впрямую относятся считаные сочинения Губайдулиной; однако инструментальным театром в широком смысле можно назвать множество ее произведений. В том числе такие разные, как два опуса рубежа веков, созданные для совершенно разных исполнителей: концерт для двух альтов с оркестром «Две тропы» написан по заказу маэстро Курта Мазура для Нью-Йоркского филармонического оркестра и двух его солисток; пьеса Risonanza — для амстердамского Шёнберг-ансамбля и дирижера Рейнберта де Леу. «Двум тропам» предпослана программа, заявленная уже в посвящении и подробно сформулированная в авторском комментарии; у Risonanza такой программы нет, как нет ничего общего между составом, образным строем, звуковым обликом двух сочинений — разве что более или менее равная продолжительность.
Тем не менее, интуитивно каждое из двух воспринимается как настоящая музыкальная драма (в случае «Двух троп» — необязательно связанная с заявленной программой), персонажи которой спорят, соглашаются, перебивают друг друга, настаивают на своем и даже вступают в драку. Разумеется, подобные впечатления субъективны, но именно от музыки Губайдулиной они возникают с особой силой — даже когда первое сочинение из двух тяготеет к драматическому симфонизму, а второе скорее исследует возможности современного ансамбля и звука в принципе. В этом смысле символичным выглядит то, что Risonanza написана уже в XXI веке, а концерт «Две тропы» — еще в ХХ, хотя и на три года раньше. О его замысле Губайдулина рассказывала так:
«С самого начала я имела в качестве солистов два одинаковых струнных инструмента, в которых проявляют себя два женских персонажа. В этой ситуации было очень естественно выбрать тему двух типов любви — Марии и Марфы: любить, взяв на себя все житейские попечения... и любить, посвятив себя главному и наивысшему». Соответственно, стихия практичной Марфы — нижний регистр, возвышенной Марии — верхний, и каждая пытается «завоевать» свой. Однако в оркестре «происходит ряд драматических ситуаций, иногда весьма агрессивных и жестоких. Каждая из этих ситуаций оборачивается для солисток вопросами, на которые они должны отвечать». И главным сюжетом сочинения становится не столько спор солисток между собою и не попытки каждой утвердиться в своем регистре, сколько их противостояние с внешним миром, порой звучащее довольно-таки жутко. При этом среда, которую воплощает оркестр, по отношению к двум альтам может быть не только враждебной, но и сочувственной, а партии альтов выписаны так поэтично, что на 25 минут захватывают слушателя полностью.
Совсем иначе воспринимается Risonanza с ее необычным составом, агрессивной средой, напоминающей сегодняшние телевизионные ток-шоу, контрастностью событий, сменяющих друг друга с калейдоскопической частотой. В отличие от «Двух троп», где слушателя увлекает разыгрывающаяся драма, Risonanza приковывает его внимание «от противного», как своего рода грандиозный коллаж. Вот его типичный эпизод: орган играет кластерами, пока контрабас и виолончель издают странные звуки (с использованием стеклянных стаканов) и вдруг сливаются с остальными струнными в абсолютном согласии; тем агрессивнее реагирует орган, как будто «бьет» струнные отрывистыми аккордами, но наступает общепримиряющее tutti — неожиданно и ненадолго; орган отчаянно играет в самом высоком регистре, словно его заело, пока трубы и тромбоны по очереди спрашивают, что, собственно, случилось; орган отвечает мажорным аккордом и, разумеется, тоже ненадолго. Такова и вся пьеса, от которой можно сойти с ума, но невозможно оторваться.
Тем не менее, интуитивно каждое из двух воспринимается как настоящая музыкальная драма (в случае «Двух троп» — необязательно связанная с заявленной программой), персонажи которой спорят, соглашаются, перебивают друг друга, настаивают на своем и даже вступают в драку. Разумеется, подобные впечатления субъективны, но именно от музыки Губайдулиной они возникают с особой силой — даже когда первое сочинение из двух тяготеет к драматическому симфонизму, а второе скорее исследует возможности современного ансамбля и звука в принципе. В этом смысле символичным выглядит то, что Risonanza написана уже в XXI веке, а концерт «Две тропы» — еще в ХХ, хотя и на три года раньше. О его замысле Губайдулина рассказывала так:
«С самого начала я имела в качестве солистов два одинаковых струнных инструмента, в которых проявляют себя два женских персонажа. В этой ситуации было очень естественно выбрать тему двух типов любви — Марии и Марфы: любить, взяв на себя все житейские попечения... и любить, посвятив себя главному и наивысшему». Соответственно, стихия практичной Марфы — нижний регистр, возвышенной Марии — верхний, и каждая пытается «завоевать» свой. Однако в оркестре «происходит ряд драматических ситуаций, иногда весьма агрессивных и жестоких. Каждая из этих ситуаций оборачивается для солисток вопросами, на которые они должны отвечать». И главным сюжетом сочинения становится не столько спор солисток между собою и не попытки каждой утвердиться в своем регистре, сколько их противостояние с внешним миром, порой звучащее довольно-таки жутко. При этом среда, которую воплощает оркестр, по отношению к двум альтам может быть не только враждебной, но и сочувственной, а партии альтов выписаны так поэтично, что на 25 минут захватывают слушателя полностью.
Совсем иначе воспринимается Risonanza с ее необычным составом, агрессивной средой, напоминающей сегодняшние телевизионные ток-шоу, контрастностью событий, сменяющих друг друга с калейдоскопической частотой. В отличие от «Двух троп», где слушателя увлекает разыгрывающаяся драма, Risonanza приковывает его внимание «от противного», как своего рода грандиозный коллаж. Вот его типичный эпизод: орган играет кластерами, пока контрабас и виолончель издают странные звуки (с использованием стеклянных стаканов) и вдруг сливаются с остальными струнными в абсолютном согласии; тем агрессивнее реагирует орган, как будто «бьет» струнные отрывистыми аккордами, но наступает общепримиряющее tutti — неожиданно и ненадолго; орган отчаянно играет в самом высоком регистре, словно его заело, пока трубы и тромбоны по очереди спрашивают, что, собственно, случилось; орган отвечает мажорным аккордом и, разумеется, тоже ненадолго. Такова и вся пьеса, от которой можно сойти с ума, но невозможно оторваться.
Беседа Фархада Бахтияри с Туфаном Имамутдиновым, Нурбеком и Алёной Батуллой о современном искусстве Татарстана, творческом объединении «Алиф» и одноименном спектакле
Фархад
Бахтияри
Бахтияри
Композитор, музыковед, лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции, член Союза композиторов РФ. Преподаватель Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, аспирант Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В центре внимания – современная экспериментальная и традиционная музыка народов мира.
Творческое объединение «Әлиф» («Алиф») — это одно из передовых сообществ в области современного татарского искусства, сфокусированное на музыкально-театральном направлении. Уникальность объединения в том, что оно является едва ли не единственным в Республике Татарстан, сочетающим современный театр и звучание традиционных инструментов тюркоязычных народов мира. Студия «Әлиф» появилась 12 июля 2017 года с первой постановкой одноименного спектакля. (Название было дано по первой букве татарской арабицы, широко применявшейся в булгарском, а затем в татарском языке с Х века до 1928 года. Среди татар некоторых стран зарубежья используется до сих пор).
Спектакль «Әлиф»
Спектакль «Әлиф»
Спектакль «Әлиф»
Проекты студии демонстрировались на различных сценах как в России, так и за ее пределами, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Мехико, Париж, Баку, Бухарест и многие другие. Они неоднократно становились номинантами и лауреатами всероссийских и международных премий (например, «Золотой Маски» и «Тантана») и принимали участие в крупных фестивалях, включая Международный фестиваль танца в Мексике и Дягилевский фестиваль.
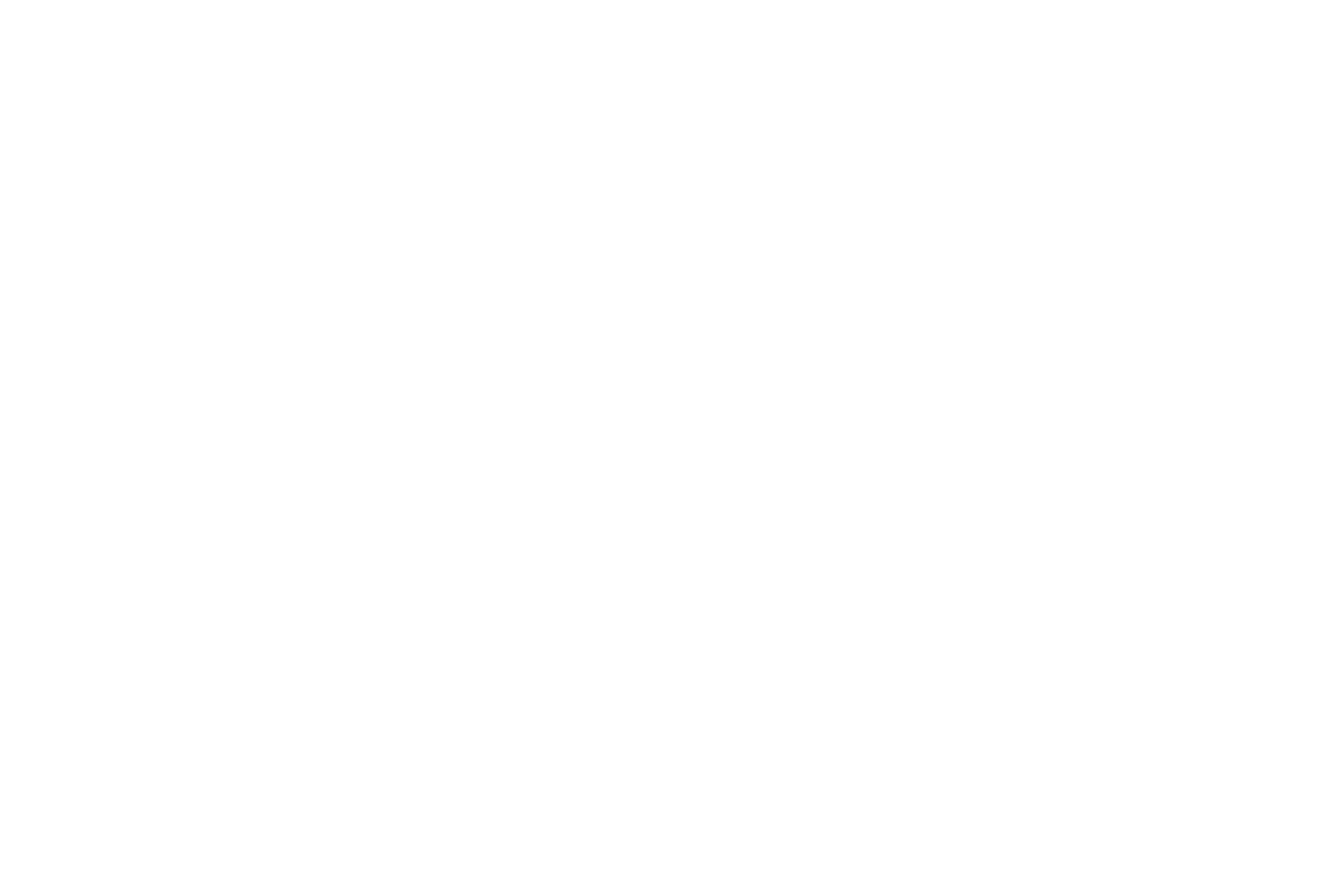
Туфан Имамутдинов — главный режиссер Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, руководитель творческого объединения «Әлиф»
ФБ (Фархад Бахтияри) Если задаться вопросом о том, какое оно современное татарское искусство, то, наверное, можно выделить как минимум три основных направления. Одни в центр помещают искусство советского времени. Другие ищут обновленное по современным меркам дореволюционное искусство. Третьи вовсе не беспокоятся о традиционном компоненте. Согласны ли Вы с таким делением?
ТИ (Туфан Имамутдинов) Мне кажется, такое деление изначально неправильное. Есть ныне живущие драматурги, которые пишут, будто живут 200 лет тому назад. Есть произведения Мольера и Шекспира, которые сейчас очень актуальны. Поэтому современно искусство или нет, зависит от материала. Советский, дореволюционный, да и третий тип материала, не относящийся к конкретному временному промежутку, могут быть современными. Важно, чтобы сама идея постановщика, хореографа и режиссера была актуальной.
ФБ Если взять именно театр и музыку для театра, как обстоит дело в этой сфере?
ТИ Музыка для театра бывает разной: есть иллюстративная, атмосферная, существующая в контрапункте с театральным действием. Все зависит от задач, поставленных режиссером. В наших постановках через музыку ведется внутренний поиск национальной, эмоциональной и идентичностной памяти. Невольно так получается, что для ее исполнения нам требуются именно забытые старинные татарские инструменты.
ФБ Они звучат в Ваших проектах весьма часто. Это связано с Вашим тяготением к ним? Или это были задумки к конкретным работам?
ТИ Да, такие инструменты часто звучат в наших постановках, при этом их использование зависит от содержания конкретных проектов. Но я бы не называл их только татарскими, потому что определения «татарский» и «Татарстан» в современном понимании появились только в начале ХХ века с приходом Советов. А до этого существовало единое тюркское пространство. Из-за того, что 400–500 лет назад между нашими народами не существовало строгих административных границ, не было и строгого деления в музыкальной культуре, допустим, на узбекские, татарские или казахские инструменты. Музыка была неделимой, безграничной — этим она нас и интересует. На мой взгляд, все тюркские музыкальные инструменты относятся к нашей культуре. На них играли наши предки. Так, в наших спектаклях звучит и башкирский курай, хотя его нельзя назвать только башкирским.
ТИ (Туфан Имамутдинов) Мне кажется, такое деление изначально неправильное. Есть ныне живущие драматурги, которые пишут, будто живут 200 лет тому назад. Есть произведения Мольера и Шекспира, которые сейчас очень актуальны. Поэтому современно искусство или нет, зависит от материала. Советский, дореволюционный, да и третий тип материала, не относящийся к конкретному временному промежутку, могут быть современными. Важно, чтобы сама идея постановщика, хореографа и режиссера была актуальной.
ФБ Если взять именно театр и музыку для театра, как обстоит дело в этой сфере?
ТИ Музыка для театра бывает разной: есть иллюстративная, атмосферная, существующая в контрапункте с театральным действием. Все зависит от задач, поставленных режиссером. В наших постановках через музыку ведется внутренний поиск национальной, эмоциональной и идентичностной памяти. Невольно так получается, что для ее исполнения нам требуются именно забытые старинные татарские инструменты.
ФБ Они звучат в Ваших проектах весьма часто. Это связано с Вашим тяготением к ним? Или это были задумки к конкретным работам?
ТИ Да, такие инструменты часто звучат в наших постановках, при этом их использование зависит от содержания конкретных проектов. Но я бы не называл их только татарскими, потому что определения «татарский» и «Татарстан» в современном понимании появились только в начале ХХ века с приходом Советов. А до этого существовало единое тюркское пространство. Из-за того, что 400–500 лет назад между нашими народами не существовало строгих административных границ, не было и строгого деления в музыкальной культуре, допустим, на узбекские, татарские или казахские инструменты. Музыка была неделимой, безграничной — этим она нас и интересует. На мой взгляд, все тюркские музыкальные инструменты относятся к нашей культуре. На них играли наши предки. Так, в наших спектаклях звучит и башкирский курай, хотя его нельзя назвать только башкирским.
Спектакль Sak-Sok. Фото — Дарья Мойс
Спектакль Sak-Sok. Фото — Дарья Мойс
Спектакль Sak-Sok. Фото — Дарья Мойс
ФБ Есть ли у Вас какие-то образы, связанные с конкретными традиционными инструментами? Помню, у Вас был проект о тишине и в разговоре о нем Вы сказали, что нужна воздушная сфера, типа курая. Есть ли еще подобные примеры?
ТИ Всегда замечаю, что у каждого произведения — свое звучание. Атмосфера создается, конечно же, исходя из темы. Если идет речь о кочевниках, логично задействовать музыкальные инструменты, относящиеся к их культуре. Но если ты берешь тюркскую тематику, какой-то эпос и вдруг используешь альт или клавесин, это выглядит странно. Их звучание не соответствует не только документальным, но и атмосферным и поэтическим аспектам истории. К тому же, очень важно чувствовать связь каждого музыкального инструмента, тембра, ритма, звучания, техники с поэтическим словом, с текстом и с атмосферой того времени, когда этот текст создавался.
ФБ Некоторые проекты Вы изначально задумывали как оперы. Как именно Вы видите этот жанр?
ТИ Чем отличается опера от других жанров? Прежде всего, это весьма синтетическое искусство, где есть и музыка, и голос, и танец, и движение, где выстроена сценография — то есть визуальная сторона. В опере мы говорим о некой монументальности, это гимн искусству. В драматическом театре на первом месте человеческое тело, мизансцена. После 15-го ряда можно уже не разглядеть все нюансы игры драматического артиста. А вот когда появляется оперное начало, голос — уникальный инструмент, то при правильной акустике удается охватить очень большое пространство. Исполнитель может выдавать эмоции не лицом, а голосом. Поэтому для меня опера является высшей сферой проявления человеческих чувств, отношений и ключевой идеи.
ТИ Всегда замечаю, что у каждого произведения — свое звучание. Атмосфера создается, конечно же, исходя из темы. Если идет речь о кочевниках, логично задействовать музыкальные инструменты, относящиеся к их культуре. Но если ты берешь тюркскую тематику, какой-то эпос и вдруг используешь альт или клавесин, это выглядит странно. Их звучание не соответствует не только документальным, но и атмосферным и поэтическим аспектам истории. К тому же, очень важно чувствовать связь каждого музыкального инструмента, тембра, ритма, звучания, техники с поэтическим словом, с текстом и с атмосферой того времени, когда этот текст создавался.
ФБ Некоторые проекты Вы изначально задумывали как оперы. Как именно Вы видите этот жанр?
ТИ Чем отличается опера от других жанров? Прежде всего, это весьма синтетическое искусство, где есть и музыка, и голос, и танец, и движение, где выстроена сценография — то есть визуальная сторона. В опере мы говорим о некой монументальности, это гимн искусству. В драматическом театре на первом месте человеческое тело, мизансцена. После 15-го ряда можно уже не разглядеть все нюансы игры драматического артиста. А вот когда появляется оперное начало, голос — уникальный инструмент, то при правильной акустике удается охватить очень большое пространство. Исполнитель может выдавать эмоции не лицом, а голосом. Поэтому для меня опера является высшей сферой проявления человеческих чувств, отношений и ключевой идеи.
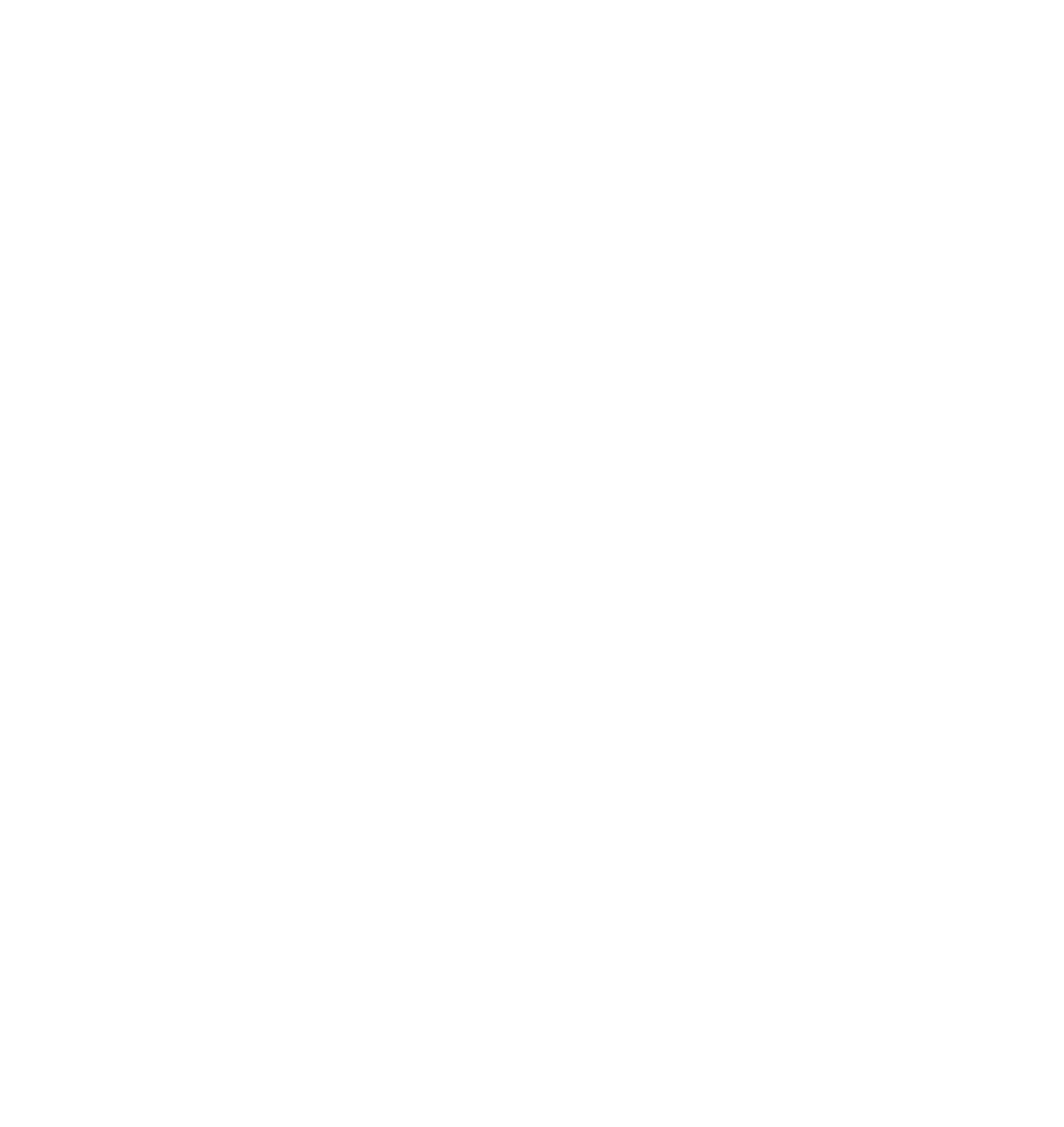
ФБ У Вас нередко встречаются отсылки к татарской арабице: в названии объединения «Әлиф», на афише «Идегея», в спектакле «Хыялга бер адым» («Один шаг до мечты» — прим. автора) и во многих других. На фестивале «Караш» («Взгляд" — прим. автора) Вы поставили спектакль «Каф» Н. Галимовой, где фигурирует еще одна буква арабицы. Радиф Кашапов как раз подметил это на обсуждении спектакля в Альметьевске. А что Вы можете сказать об этом важном для Вашего творчества средстве?
ТИ Наверное, оно важно не только для меня, но и для всех татар, потому что арабицу мы использовали на протяжении тысячи лет, до начала ХХ века. Все значимые татарские произведения — и литературные, и философские, и стихотворные, и исторические — написаны именно на ней. Еще и ста лет нет тому, как мы пользуемся кириллицей, а на арабице мы транслировали себя тысячу лет.
ФБ Как раз об этом был и знаковый «Әлиф» — сначала спектакль, затем творческое объединение. Наверное, можно назвать его центром, который сплотил творцов современного татарского искусства. Как родилась идея создать такую студию?
ТИ Я очень люблю иранскую поэзию. Поэтому изначально у меня было стихотворение иранского автора, которое мы хотели использовать. Спустя какое-то время, я вспомнил, что арабской графикой пользовались и наши великие поэты, писатели. И мы взяли, наверное, самое знаменитое стихотворение татарской литературы — неофициальный татарский гимн «Туган тел» («Родной язык» Габдуллы Тукая — прим. автора). Впоследствии сложилась идея такой параллели: как когда-то исчезла арабица и связь с тысячелетней культурой, так сейчас начинает исчезать наш язык. В последние 20−30 лет он попал в список исчезающих языков.
ФБ Как так совпало, что три крупных представителя бомонда (как говорил хореограф и актер Юрий Блинов) современного искусства оказались творцами этого проекта: Вы, хореограф и танцовщик Нурбек Батулла, композитор Эльмир Низамов, а впоследствии и хореограф Марсель Нуриев? Насколько помню, у Вас и до этого были совместные работы с Низамовым. А вот с Нурбеком?
ТИ С Эльмиром Низамовым мы начали сотрудничать, когда я работал в казанском ТЮЗе. Наш спектакль «Ван Гог» (полное название «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог») — прим. автора) был номинирован на «Золотую Маску». Потом было еще несколько постановок. А которым по счету стал наш «Әлиф», я даже не помню.
С Нурбеком получилось немного иначе. Мне сказали, что он хорошо танцует, и я подумал: раз человек увлекается национальной культурой, значит этот проект будет ему интересен. Впоследствии мы пригласили и Марселя Нуриева, который стал неотъемлемой частью нашей четверки.
ТИ Наверное, оно важно не только для меня, но и для всех татар, потому что арабицу мы использовали на протяжении тысячи лет, до начала ХХ века. Все значимые татарские произведения — и литературные, и философские, и стихотворные, и исторические — написаны именно на ней. Еще и ста лет нет тому, как мы пользуемся кириллицей, а на арабице мы транслировали себя тысячу лет.
ФБ Как раз об этом был и знаковый «Әлиф» — сначала спектакль, затем творческое объединение. Наверное, можно назвать его центром, который сплотил творцов современного татарского искусства. Как родилась идея создать такую студию?
ТИ Я очень люблю иранскую поэзию. Поэтому изначально у меня было стихотворение иранского автора, которое мы хотели использовать. Спустя какое-то время, я вспомнил, что арабской графикой пользовались и наши великие поэты, писатели. И мы взяли, наверное, самое знаменитое стихотворение татарской литературы — неофициальный татарский гимн «Туган тел» («Родной язык» Габдуллы Тукая — прим. автора). Впоследствии сложилась идея такой параллели: как когда-то исчезла арабица и связь с тысячелетней культурой, так сейчас начинает исчезать наш язык. В последние 20−30 лет он попал в список исчезающих языков.
ФБ Как так совпало, что три крупных представителя бомонда (как говорил хореограф и актер Юрий Блинов) современного искусства оказались творцами этого проекта: Вы, хореограф и танцовщик Нурбек Батулла, композитор Эльмир Низамов, а впоследствии и хореограф Марсель Нуриев? Насколько помню, у Вас и до этого были совместные работы с Низамовым. А вот с Нурбеком?
ТИ С Эльмиром Низамовым мы начали сотрудничать, когда я работал в казанском ТЮЗе. Наш спектакль «Ван Гог» (полное название «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог») — прим. автора) был номинирован на «Золотую Маску». Потом было еще несколько постановок. А которым по счету стал наш «Әлиф», я даже не помню.
С Нурбеком получилось немного иначе. Мне сказали, что он хорошо танцует, и я подумал: раз человек увлекается национальной культурой, значит этот проект будет ему интересен. Впоследствии мы пригласили и Марселя Нуриева, который стал неотъемлемой частью нашей четверки.
Нурбек Батулла — хореограф, танцовщик, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска»
ФБ Общаясь с разными представителями студии «Әлиф», с Вами, с Туфаном, с Марселем, делаю вывод, что в ваших взглядах на искусство много общего. В первую очередь это касается музыкальных критериев. Так ли это? Было ли это выработано за время существования студии или стало поводом для вашего объединения?
НБ (Нурбек Батулла) Внимание к музыке стало скорее поводом для объединения. Ведь наша первая совместная работа «Әлиф» — именно «музыкальный спектакль».
ФБ Какие особенности музыки Вам важны для создания хореографической составляющей спектакля?
НБ Мы ищем идентичность и свой театральный язык. Во-первых, музыка, вплетенная в ткань наших спектаклей (именно «вплетенная», потому что мы не используем ее как фон), сразу создает дистанцию с русско-европейским драматическим театром. Во-вторых, мы, как нам кажется, занимаемся современным искусством. А одна из проблем, которую решает «современное» искусство — проблема подражания. То есть оно пытается уйти от подражания и сразу подключиться к миру идей. Природа музыки наиболее близка к решению этой задачи.
ФБ Что для Вас, как для хореографа, важно при работе с музыкой?
НБ Я стараюсь искать хореографию независимо от музыки. В противном случае я, как хореограф, поставлю себя в заведомо зависимое положение.
ФБ Кажется, для вашего сообщества главным музыкальным критерием, наряду с «протяженностью», является «ритмичность». Что Вы об этом думаете?
НБ Это не удивительно, ведь зависимость от ритма уже заложена в нас на генетическом уровне. Ритм, наверное, — самый сильный архетип.
ФБ Вспоминаю Вашу ироническую вставку в спектакле Nafs в стиле классического балета и приходит на ум такой вопрос: органичны ли классический балет и классическая опера для татарского искусства? Мне кажется, что балет гораздо лучше вписывается в эту культурную среду. А уж современный танец гармонирует с ней почти идеально. А как считаете Вы?
НБ Лично я вырос на «Алтынчәч» (Золотоволосая, опера Н. Жиганова — прим. автора) и на «Шүрәле» («Шурале», балет Ф. Яруллина — прим. автора). И, скорее всего, мое знакомство с высокими видами искусства началось именно с татарской оперы и с татарского балета. Поэтому, мне кажется, что это органично. И если я продолжу свои поиски на поприще хореографии, то рано или поздно создам свою версию Шурале. Я просто чувствую свой долг перед прекрасной музыкой Яруллина, я чувствую, что должен оправдать Шурале. Я убежден, что Шурале — позитивный персонаж и нельзя бросать живое существо в огонь, как это происходит в советской версии балета.
НБ (Нурбек Батулла) Внимание к музыке стало скорее поводом для объединения. Ведь наша первая совместная работа «Әлиф» — именно «музыкальный спектакль».
ФБ Какие особенности музыки Вам важны для создания хореографической составляющей спектакля?
НБ Мы ищем идентичность и свой театральный язык. Во-первых, музыка, вплетенная в ткань наших спектаклей (именно «вплетенная», потому что мы не используем ее как фон), сразу создает дистанцию с русско-европейским драматическим театром. Во-вторых, мы, как нам кажется, занимаемся современным искусством. А одна из проблем, которую решает «современное» искусство — проблема подражания. То есть оно пытается уйти от подражания и сразу подключиться к миру идей. Природа музыки наиболее близка к решению этой задачи.
ФБ Что для Вас, как для хореографа, важно при работе с музыкой?
НБ Я стараюсь искать хореографию независимо от музыки. В противном случае я, как хореограф, поставлю себя в заведомо зависимое положение.
ФБ Кажется, для вашего сообщества главным музыкальным критерием, наряду с «протяженностью», является «ритмичность». Что Вы об этом думаете?
НБ Это не удивительно, ведь зависимость от ритма уже заложена в нас на генетическом уровне. Ритм, наверное, — самый сильный архетип.
ФБ Вспоминаю Вашу ироническую вставку в спектакле Nafs в стиле классического балета и приходит на ум такой вопрос: органичны ли классический балет и классическая опера для татарского искусства? Мне кажется, что балет гораздо лучше вписывается в эту культурную среду. А уж современный танец гармонирует с ней почти идеально. А как считаете Вы?
НБ Лично я вырос на «Алтынчәч» (Золотоволосая, опера Н. Жиганова — прим. автора) и на «Шүрәле» («Шурале», балет Ф. Яруллина — прим. автора). И, скорее всего, мое знакомство с высокими видами искусства началось именно с татарской оперы и с татарского балета. Поэтому, мне кажется, что это органично. И если я продолжу свои поиски на поприще хореографии, то рано или поздно создам свою версию Шурале. Я просто чувствую свой долг перед прекрасной музыкой Яруллина, я чувствую, что должен оправдать Шурале. Я убежден, что Шурале — позитивный персонаж и нельзя бросать живое существо в огонь, как это происходит в советской версии балета.
Спектакль «Каааф». Фото — Айрат Салихов
Спектакль «Каааф». Фото — Айрат Салихов
ФБ Наверное, есть такой парадокс: если взять плавно развивающуюся продолжительную музыку в традиционном духе, предназначенную для традиционных инструментов, и использовать ее в хореографической композиции, где нет традиционных элементов, это окажется вполне органичным; а вот если наоборот, то получится выступление фольклорного танцевального ансамбля под неправильно включенную фонограмму. Согласны ли Вы с таким мнением?
НБ Контрасты работают очень хорошо. Современный танец прекрасно сочетается с традиционной музыкой, и, наоборот, традиционный танец — с каким-нибудь техно. А вот если нет контрастов, тогда это фольклорный ансамбль.
ФБ Однажды смотрел балет «Шурале» в сопровождении симфонического оркестра и поймал себя на мысли, что хочу услышать новую инструментовку этой классики для ансамбля и увидеть современную хореографию. Как по-Вашему, актуальны ли для современного зрителя татарские балеты советского времени? Или все-таки это пережиток прошлого, который требует переосмысления, переделывания?
НБ Кажется, многое требует переосмысления. Музыка, скорее всего, существует вне времени, а вот новая оркестровка, хореография, переосмысленный сюжет будут признаком того, что мы живы. Иначе все это превратится в мертвый музейный экспонат.
НБ Контрасты работают очень хорошо. Современный танец прекрасно сочетается с традиционной музыкой, и, наоборот, традиционный танец — с каким-нибудь техно. А вот если нет контрастов, тогда это фольклорный ансамбль.
ФБ Однажды смотрел балет «Шурале» в сопровождении симфонического оркестра и поймал себя на мысли, что хочу услышать новую инструментовку этой классики для ансамбля и увидеть современную хореографию. Как по-Вашему, актуальны ли для современного зрителя татарские балеты советского времени? Или все-таки это пережиток прошлого, который требует переосмысления, переделывания?
НБ Кажется, многое требует переосмысления. Музыка, скорее всего, существует вне времени, а вот новая оркестровка, хореография, переосмысленный сюжет будут признаком того, что мы живы. Иначе все это превратится в мертвый музейный экспонат.
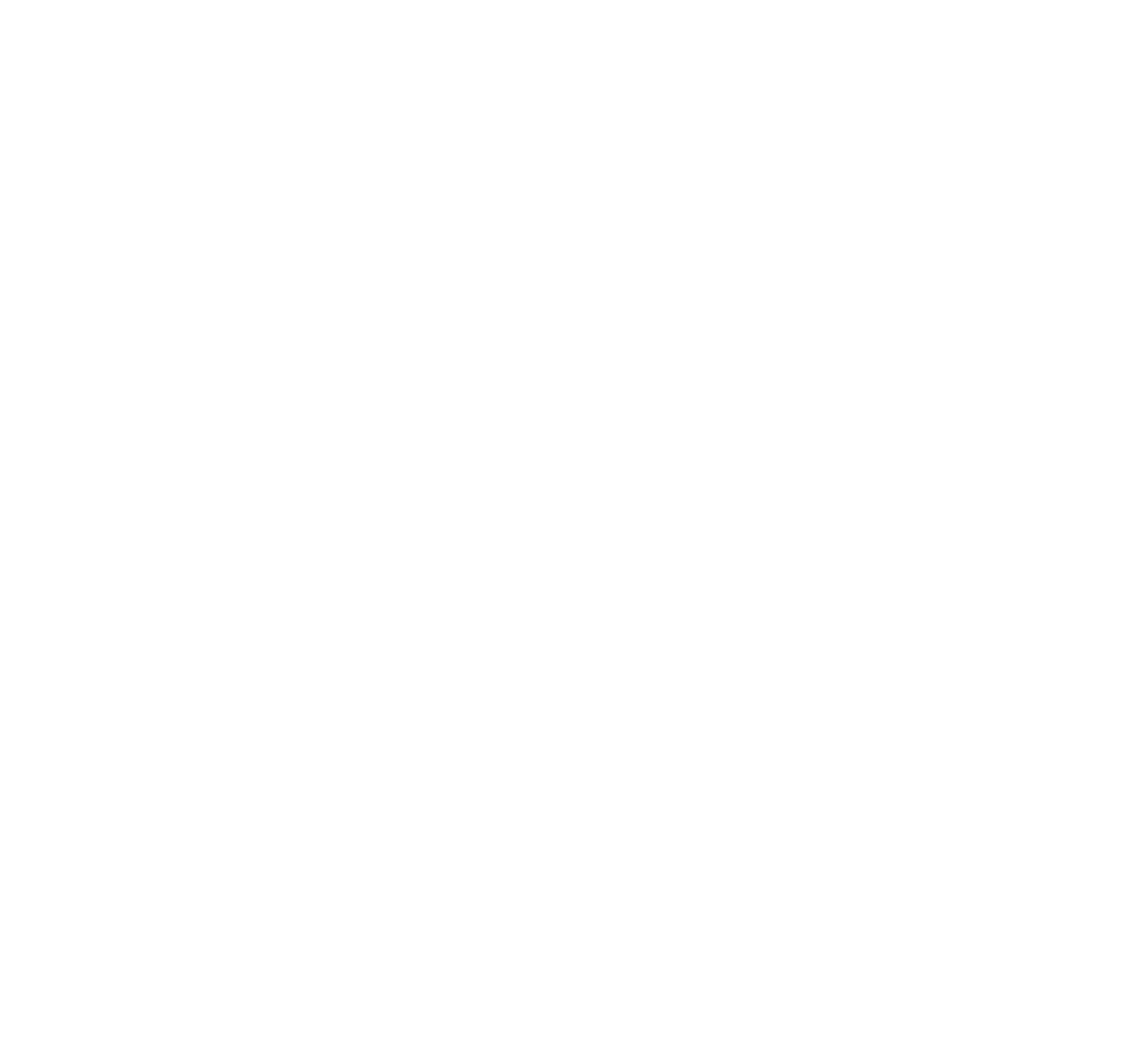
Алёна Батулла — продюсер объединения «Әлиф»
ФБ Давно интересовался тем, как появилось творческое объединение «Әлиф» — одно из центральных сообществ в области современного татарского искусства. Насколько мне известно, Вы застали первые шаги его создания. Расскажите об этом подробнее.
АБ (Алёна Батулла) Мое знакомство с участниками объединения «Әлиф» было очень прозаичным. В 2017 году мой муж, танцовщик Нурбек Батулла, начал работу над новым спектаклем вместе с режиссером Туфаном Имамутдиновым и хореографом Марселем Нуриевым. Это был их первый совместный проект. «Әлиф» создавался в органичных творческих условиях, когда четыре художника были открыты миру и хотели впервые вместе поработать. Они узнавали друг друга, много времени проводили вместе, саккумулировали творческую энергию и направили ее на создание современного спектакля.
ФБ С чего началась деятельность «Әлиф»? В какой момент Вы стали его активным участником, без которого бы не состоялось это множество проектов?
АБ Спектакль «Әлиф» стал открытием сначала для казанского зрителя, а уже потом — для всей страны, после того как в 2018 году Нурбек получил «Золотую Маску» в номинации «Современный танец». Проект стал точкой отсчета для объединения с тем же названием. После успеха «Әлифа» стало ясно, что команда хочет продолжать работать вместе, развивать современный национальный театр, и возникла потребность в человеке, который мог бы заниматься организационными вопросами и продвижением. Нурбек рассказал Туфану обо мне — к тому моменту у меня уже было 10 лет опыта в PR. Так я и стала частью «Әлифа».
АБ (Алёна Батулла) Мое знакомство с участниками объединения «Әлиф» было очень прозаичным. В 2017 году мой муж, танцовщик Нурбек Батулла, начал работу над новым спектаклем вместе с режиссером Туфаном Имамутдиновым и хореографом Марселем Нуриевым. Это был их первый совместный проект. «Әлиф» создавался в органичных творческих условиях, когда четыре художника были открыты миру и хотели впервые вместе поработать. Они узнавали друг друга, много времени проводили вместе, саккумулировали творческую энергию и направили ее на создание современного спектакля.
ФБ С чего началась деятельность «Әлиф»? В какой момент Вы стали его активным участником, без которого бы не состоялось это множество проектов?
АБ Спектакль «Әлиф» стал открытием сначала для казанского зрителя, а уже потом — для всей страны, после того как в 2018 году Нурбек получил «Золотую Маску» в номинации «Современный танец». Проект стал точкой отсчета для объединения с тем же названием. После успеха «Әлифа» стало ясно, что команда хочет продолжать работать вместе, развивать современный национальный театр, и возникла потребность в человеке, который мог бы заниматься организационными вопросами и продвижением. Нурбек рассказал Туфану обо мне — к тому моменту у меня уже было 10 лет опыта в PR. Так я и стала частью «Әлифа».
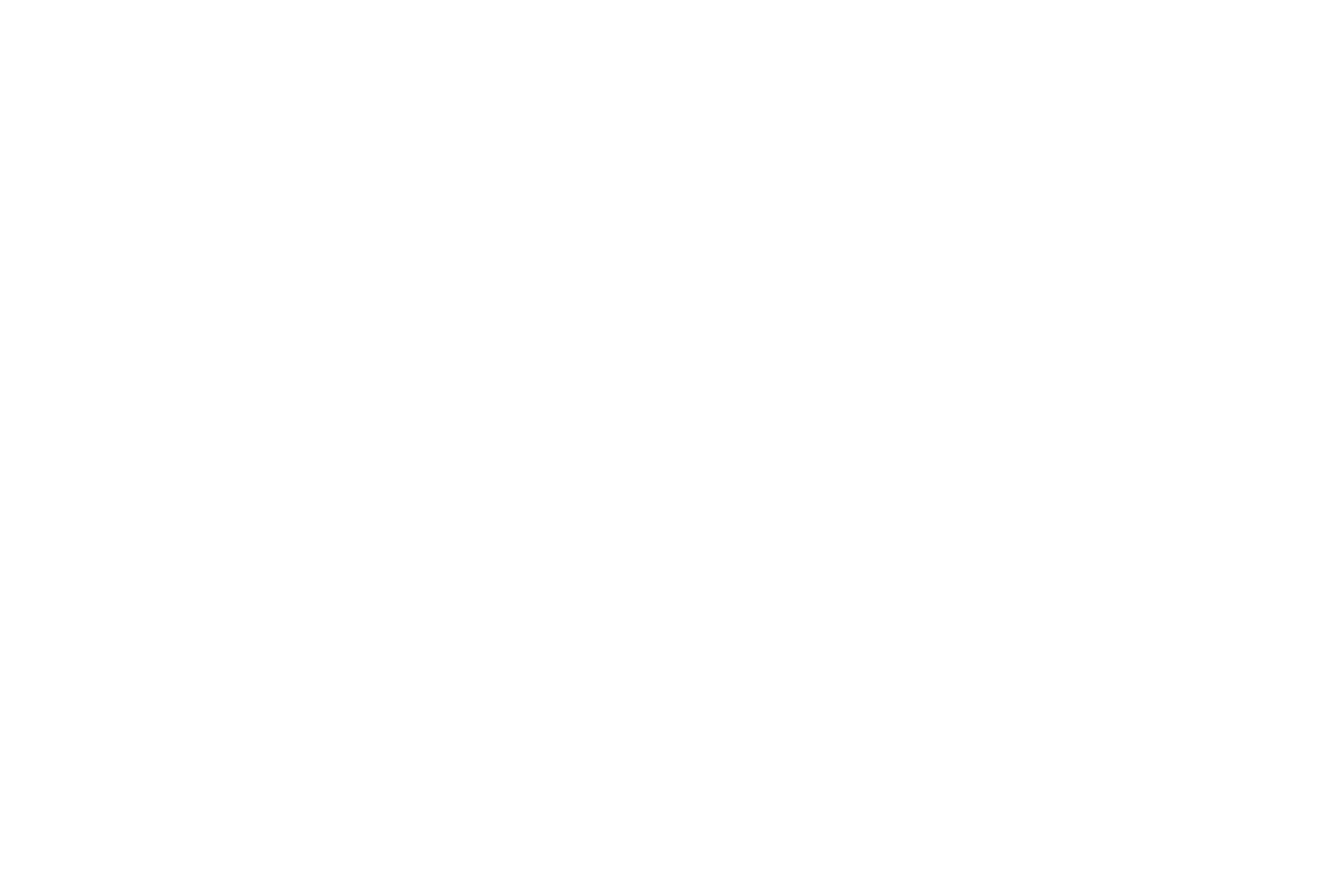
ФБ Какие проекты оказались самыми сложными с организационной точки зрения?
АБ Когда начинаешь любой проект, всегда сталкиваешься с целым ворохом задач, сложностей, с цепочкой коммуникаций, с человеческим фактором. Поэтому я бы не стала выделять что-то одно. Скажу только, что люблю работать со всеми участниками объединения «Әлиф» как с художниками (artists). Люблю их внутренний мир, их образованность и начитанность, честный подход в работе и справедливое отношение к человеку.
ФБ Можно ли выстроить какую-то историю функционирования объединения? Выделить какие-то ключевые этапы ее деятельности: зарождения, расцвета?
АБ Зарождение объединения началось с создания спектакля «Әлиф», затем были постановки «Шамаиль», «Әллүки» («Аллюки» — прим. автора), «Һава» («Воздух» — прим. автора), Sak-Sok, Därdemänd, «ДӨР». Потом наши спектакли стали ежегодно появляться в шорт-листе «Золотой Маски», мы начали ездить на международные театральные фестивали в Мексику, Азербайджан, Францию, в Москву и Санкт-Петербург. В 2023 году мы приняли участие в Дягилевском фестивале. А в 2025-м уже реализуем собственный большой театральный проект в Альметьевске «АРКАДАШ», где проводим лаборатории, мастер-классы и делаем показы спектаклей.
АБ Когда начинаешь любой проект, всегда сталкиваешься с целым ворохом задач, сложностей, с цепочкой коммуникаций, с человеческим фактором. Поэтому я бы не стала выделять что-то одно. Скажу только, что люблю работать со всеми участниками объединения «Әлиф» как с художниками (artists). Люблю их внутренний мир, их образованность и начитанность, честный подход в работе и справедливое отношение к человеку.
ФБ Можно ли выстроить какую-то историю функционирования объединения? Выделить какие-то ключевые этапы ее деятельности: зарождения, расцвета?
АБ Зарождение объединения началось с создания спектакля «Әлиф», затем были постановки «Шамаиль», «Әллүки» («Аллюки» — прим. автора), «Һава» («Воздух» — прим. автора), Sak-Sok, Därdemänd, «ДӨР». Потом наши спектакли стали ежегодно появляться в шорт-листе «Золотой Маски», мы начали ездить на международные театральные фестивали в Мексику, Азербайджан, Францию, в Москву и Санкт-Петербург. В 2023 году мы приняли участие в Дягилевском фестивале. А в 2025-м уже реализуем собственный большой театральный проект в Альметьевске «АРКАДАШ», где проводим лаборатории, мастер-классы и делаем показы спектаклей.
Большой огонь в маленьком швейцарском городе
Премьера оперы «Большой огонь» (Das Grosse Feuer) Беата Фуррера в Цюрихском оперном театре
Maria
Milagros
Milagros
Швейцарско-испанская журналистка и переводчик, автор статей о современной музыке и музыкальном театре.
Цюрих — город, который с большим энтузиазмом и непоказной серьезностью чтит традицию «большого огня», как никакой другой швейцарский город. Начиная с XVI века каждое последнее воскресенье апреля королевство у озера меняет свое лицо: обычно спокойный и полусонный город стряхивает усталость, и толпы цюрихцев в приподнятом состоянии духа собираются на улицах в ожидании чуда — явление, возможно, обычное для Москвы, но довольно редкое для швейцарских городов немецкоговорящего кантона. На несколько часов город приобретает новый центр — огромное количество людей собираются на площади у неоклассицистского здания Цюрихского оперного театра, формируясь в аккуратное кольцо огромного диаметра. Обмениваясь шутками и цветами под наблюдением строгих бюстов Вагнера, Вебера и Моцарта, цюрихцы ждут большого огня, который прогонит холода — традиция, схожая со славянской масленицей. Огромная фигура «снежного человека» воспламеняется от фейерверков, становясь символом уходящей зимы, и превращается в 30-метровый костер, который горит всю ночь, придавая недоступно белым стенам оперного театра немного уюта.
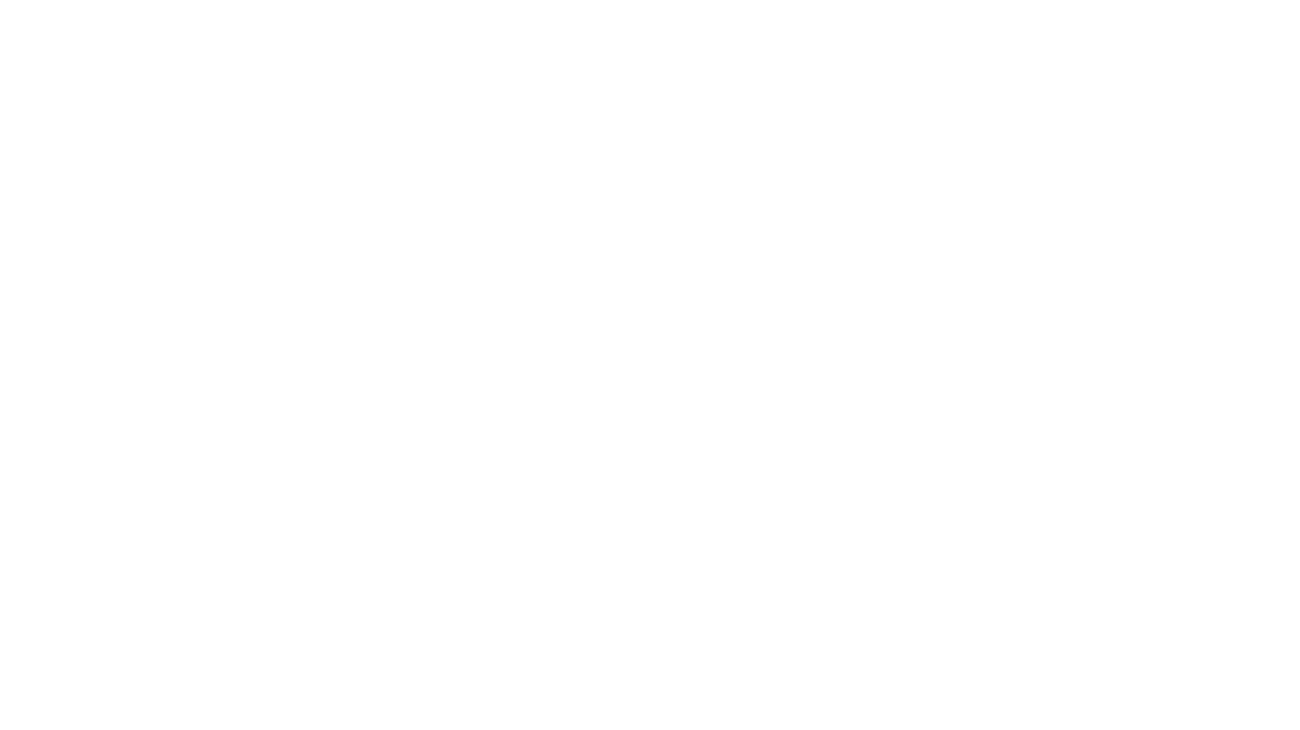
Прощающийся с зимой костер в этом году стал не первым огнем, осветившим стены Цюрихской оперы: за месяц до грандиозного сожжения «снежного человека» внутри загорелся другой огонь — «Большой огонь» Беата Фуррера1. Мировая премьера оперы современного швейцарско-австрийского композитора прошла 23 марта 2025 года, став самой новой музыкальной премьерой в репертуаре этого сезона. Опера была не просто предложена к постановке, а напрямую заказана Цюрихским оперным театром при поддержке фонда Ernst von Siemens — факт не редкий, но примечательный, учитывая, что «Большой огонь» стал одной из последних премьер Цюрихской оперы под руководством Андреаса Хомоки (Andreas Homoki), который покидает пост интенданта в этом году. Свое тринадцатилетнее руководство он завершил красивым символическим жестом: заказал оперу одному из самых исполняемых современных композиторов швейцарского происхождения, будто отдавая легкий поклон швейцарской музыкальной культуре.
Цюрихская опера сезона 2024/2025 не поскупилась на красивые репертуарные жесты, но размышления об их привлекательности для широкой публики возникли при первом же шаге в фойе в день премьеры. Некогда двери этого театра казались слишком маленькими для столпотворения людей, жаждущих увидеть первое вне стен Байройта исполнение «Парсифаля» Вагнера, премьеру «Лулу» Берга или «Моисея и Аарона» Шёнберга. Однако в день дебютного показа «Большого огня» театр едва ли можно было назвать полным публики и ажиотажа.
Цюрихская опера сезона 2024/2025 не поскупилась на красивые репертуарные жесты, но размышления об их привлекательности для широкой публики возникли при первом же шаге в фойе в день премьеры. Некогда двери этого театра казались слишком маленькими для столпотворения людей, жаждущих увидеть первое вне стен Байройта исполнение «Парсифаля» Вагнера, премьеру «Лулу» Берга или «Моисея и Аарона» Шёнберга. Однако в день дебютного показа «Большого огня» театр едва ли можно было назвать полным публики и ажиотажа.

Современная музыка играет немаловажную, но не первостепенную роль в репертуарной политике команды Андреаса Хомоки: одной из главных целей интенданта стало расширение аудитории и репертуара за счет детских опер и балетов. Кроме того, одной из заметных тенденций в постановках под руководством этой команды стала более «легкая» для восприятия широкой публики направленность постановок. Кажется, что ставка была сделана на любовь цюрихцев к наблюдению за «большим огнем», сопровождаемым фейерверками, но достаточно безопасным, чтобы можно было созерцать его на дистанции, сохраняя уважительное расстояние между пылающим и его наблюдателями. Подобная тенденция заметна во многих проектах последнего сезона. Вспоминается спектакль «80 дней вокруг света» с нежной музыкой британского композитора Джонатана Дава в компромиссной постановке Питера Лунда с огромными бумажными кораблями и классическими сказочными путешественниками на сцене. Другой пример — гротескная романтически окрашенная постановка оперы Россини «Путешествие в Реймс». И, наконец,«Бал-маскарад» Верди в консервативном видении с бальными костюмами, масками и игрой в серьезность проживаемых на сцене чувств.
Постановка «Большого огня» Беата Фуррера выглядит логичным продолжением стратегии, направленной на привлечение публики. Для сдержанной и хрупкой, с постепенно раскрывающимися голосами героев и инструментов, но сильной и точечной партитуры Фуррера была выбрана скорее реалистическая интерпретация, уводящая из глубокого и тонкого, существующего между измерениями мира звуков в материальную и несколько искусственную реальность.
Постановка «Большого огня» Беата Фуррера выглядит логичным продолжением стратегии, направленной на привлечение публики. Для сдержанной и хрупкой, с постепенно раскрывающимися голосами героев и инструментов, но сильной и точечной партитуры Фуррера была выбрана скорее реалистическая интерпретация, уводящая из глубокого и тонкого, существующего между измерениями мира звуков в материальную и несколько искусственную реальность.
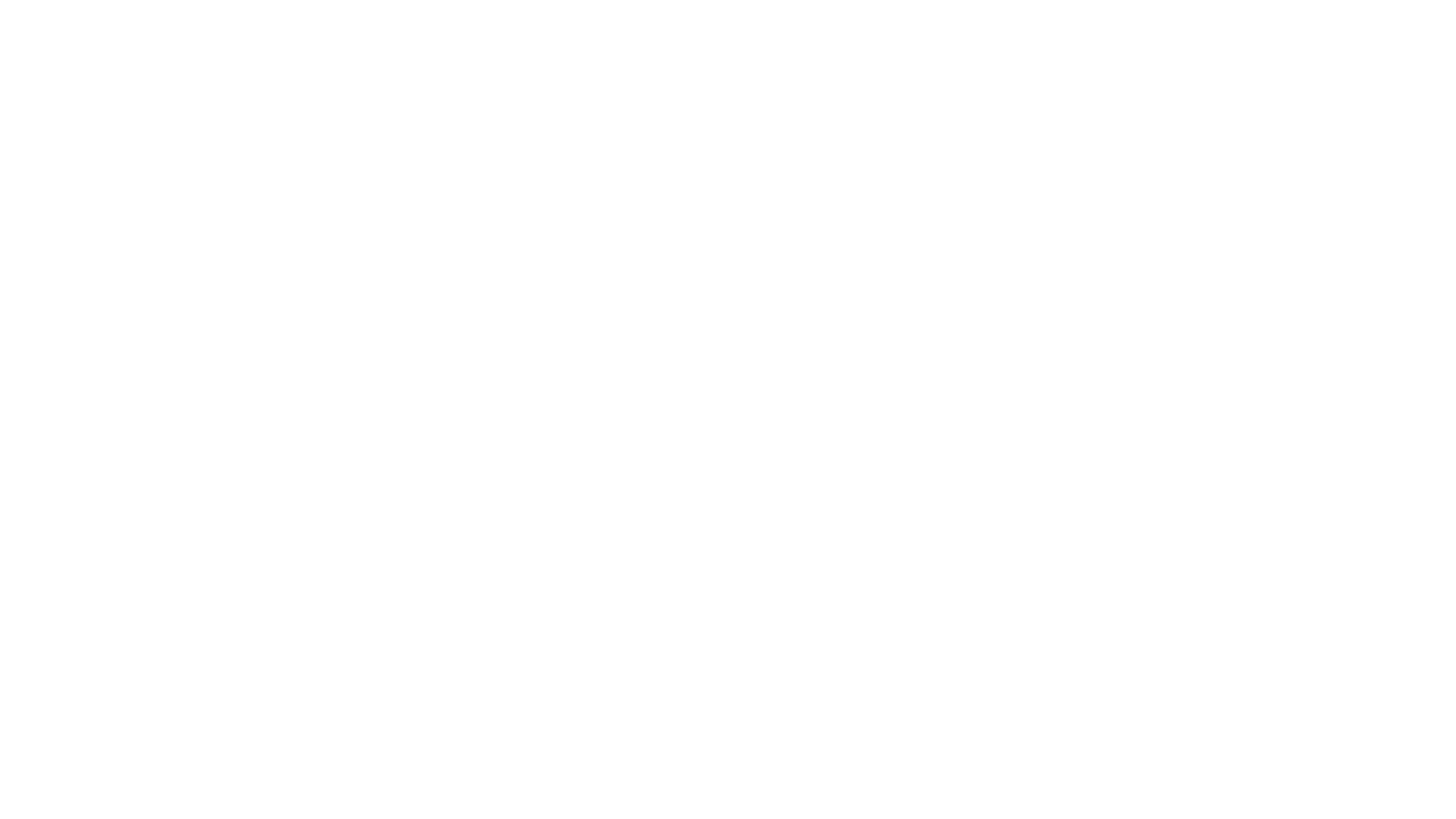
Беат Фуррер
Либретто оперы, основанное на романе аргентинской писательницы Сары Галлардо (Sara Gallardo), рассказывает историю Эйсехуас (Eisejuaz) — потомка коренных жителей южноамериканских лесов, воспитанного католическими миссионерами. Главный герой живет наполовину в мире духов, которые говорят с ним, направляют и дают защиту, наполовину в реальности, где католицизм — единственно возможное проявление духовности, позволяющей убийство местных жителей во благо света и европейской колонизации. Трепетная и многогранная партитура Беата Фуррера раскрывает Эйсехуас как человека глубоко рефлексирующего, несколько потерянного, но готового воспринять мир во всей его сложности, принять собственную слабость и раскаяться через помощь другим. В постановке Татьяны Гюрбака (Tatjana Gürbaca) образ главного героя кажется несоответствующим тому, что можно услышать в партитуре: на сцене мы видим неопрятного мужчину в растянутой майке и спортивной штанах, бесцельно перемещающегося по сцене и то поющего, то переходящего на речитативы, то увлеченного другими персонажами и забывшего о своем собственном направлении. Немецкая оперная режиссерка Татьяна Гюрбака специализируется в основном на романтической опере: большинство ее работ — это постановки произведений Вебера, Верди, Вагнера и Чайковского. Некоторые из них были представлены в Бременском театре, другая часть — в Altes Theater в Эссене.
«Большой огонь» — одна из первых современных опер в карьере Татьяны Гюрбака, и ее подход кажется несколько консервативным в контрасте с полной мелких изменений и внутреннего движения партитурой Беата Фуррера. Декорации решены в виде серых бетонных блоков, как бы подчеркивая, что действие происходит в условном антиутопическом мире; а мир внутренний — магический мир леса, в котором живет главный герой, — показан через находящийся в самом центре сцены вращающийся подиум. Взаимодействие героев с подиумом не всегда остается до конца ясным: они то вскакивают на него, то сталкивают друг друга, то разыгрывают немые сцены, но правила игры каждый раз меняются, и объект постепенно превращается скорее в красивый жест, нежели в несущий смысловую нагрузку концептуальный элемент. Европейски-нейтральный мелодический язык Фуррера далек от культурной апроприации — костюмы же, напоминающие ведьминские платья или облачения шаманов, создают противоположное впечатление и противоречат музыке.
В течение всего действия между героями происходят то напряженные, то трагические сцены, в которых благодаря постановочным решениям проявляется не всегда оправданная жестокость. Создается впечатление, что включение некоторых массовых сцен вызвано необходимостью задействовать вокальный ансамбль под руководством Кордулы Бюрги (Cordula Bürgi), роль которого в партитуре — одна из основных. Вокальный ансамбль в «Большом огне» звучит практически пуантилистски, точечно и точно, создавая ощущения фрагментированной, но бесконечно длящейся реальности, которая обрамляет и скрепляет все действие. В опере, длящейся 1 час 50 минут, около 40 небольших актов, или подглав, и вокальный ансамбль со сквозной структурой его партии, похоже, — один из формообразующих элементов оперы.
В течение всего действия между героями происходят то напряженные, то трагические сцены, в которых благодаря постановочным решениям проявляется не всегда оправданная жестокость. Создается впечатление, что включение некоторых массовых сцен вызвано необходимостью задействовать вокальный ансамбль под руководством Кордулы Бюрги (Cordula Bürgi), роль которого в партитуре — одна из основных. Вокальный ансамбль в «Большом огне» звучит практически пуантилистски, точечно и точно, создавая ощущения фрагментированной, но бесконечно длящейся реальности, которая обрамляет и скрепляет все действие. В опере, длящейся 1 час 50 минут, около 40 небольших актов, или подглав, и вокальный ансамбль со сквозной структурой его партии, похоже, — один из формообразующих элементов оперы.
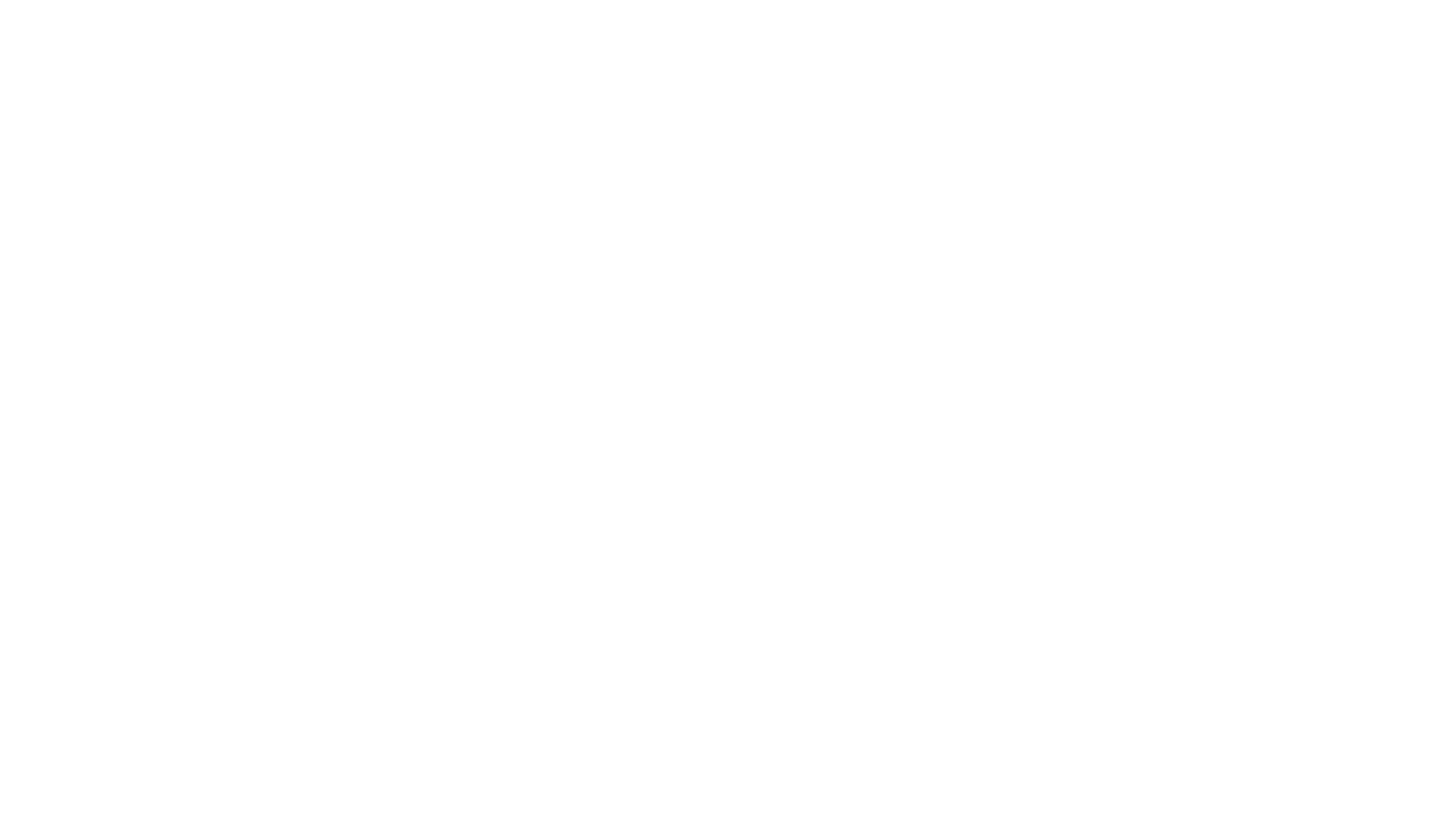
Всепроникающая и почти нежная музыка Беата Фуррера рассказывает о случающейся прямо сейчас экологической катастрофе и о проживании травмы европейской колонизации с ощущением тонкой боли. Легкие, но пугающе пустые деревянные духовые уносят в поток мыслей о разрушенном будущем, острые и тревожны медные духовые напоминают о всечеловеческой ответственности за катастрофу, а то отрывистые и речитативные, то струящиеся партии солистов возвращают на землю, к реальности и мыслям о том, что еще может быть сделано сейчас для исправления трагичного прошлого. Постановка же через костюмы и движения вызывает мысли о культурной апроприации, однако не создает ощущение намеренной провокации или шока.
Все на сцене серо и безлико, как те самые бетонные блоки. Визуальное решение формирует специфическое ощущение: подобное можно испытать, наблюдая за пламенем, которое не разгорается в полную силу и только напоминает о существовании «большого огня». Несколько человек выходят из зала, но тоже неспешно, скорее от скуки, чем от возмущения. Так что цюрихцам, возможно, еще предстоит ждать настоящего большого огня, который разгорится если не на сцене оперного театра, то по крайней мере на площади у его стен.
Все на сцене серо и безлико, как те самые бетонные блоки. Визуальное решение формирует специфическое ощущение: подобное можно испытать, наблюдая за пламенем, которое не разгорается в полную силу и только напоминает о существовании «большого огня». Несколько человек выходят из зала, но тоже неспешно, скорее от скуки, чем от возмущения. Так что цюрихцам, возможно, еще предстоит ждать настоящего большого огня, который разгорится если не на сцене оперного театра, то по крайней мере на площади у его стен.